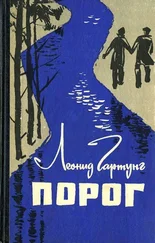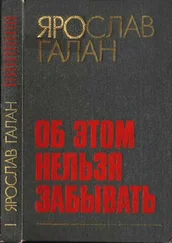Работал я только вечером, по два часа. В ту пору у меня было немало свободного времени. Я много читал. И заметил: когда читаешь, не так хочется есть.
Между тем, добывать пищу становилось все труднее. Много сил и времени я тратил на то, чтобы попасть в городскую столовую, где кормили «без прикрепления». У ее дверей я занимал очередь в два-три часа ночи. Бегал греться на почтамт. Здесь можно было постоять на лестнице и немного придти в себя от пятидесятиградусного мороза.
В столовой подавали суп с ржаными галушками в тяжелых глиняных мисках. Я обычно заказывал официантке порций восемь-десять. Часть галушек съедал, а остальные, слив горячую воду, уносил домой тете Мусе.
Большую радость доставляли письма. Довольно часто писали Миша Афонин и Леша Сверкунов. В детстве Леша жил в Хабаровске. Отец его был художник. В 1937 году отца арестовали и расстреляли. А мать Леши сошла с ума. Перед войной он учился со мной на истфаке, писал хорошие стихи, а потом ушел добровольцем в армию. Там он тоже писал стихи, которые мне очень нравились. Я и сейчас убежден, что это был чрезвычайно талантливый поэт.
Сперва Леша служил в музвзводе, а потом случилось так, что отступая, пришлось бросить все музыкальные инструменты. Тогда он взял в руки винтовку. Потом письма от него перестали приходить, и только через несколько лет я узнал, что он погиб под Черновицами.
От Миши Афонина однажды долго не было письма, потом пришла открытка — оказывается, его молчание не было случайностью. Он четырнадцать дней бродил по тылам (их дивизия попала в окружение и рассеялась). Питался травой и в состоянии тяжелой дистрофии вышел к своим. Писал он мне из госпиталя, куда его поместили.
Писал и позже из Вены, где служил, писал и после войны. Писать в то время немцу, хотя и советскому, было весьма предосудительно. «Начальство несколько раз вызывало его и ему задавали вопрос: „Может быть, не стоит писать?“, но он отвечал твердо: „Стоит“». И его оставили в покое. Он рассказывал мне об этом только через много лет, приехав ко мне в гости в Калтай.
Не переставала писать и бывшая студентка истфака, с которой мы четыре года учились в одной группе, Шура Масычева. Должно быть, ей это тоже было нелегко.
Тогда же случилось в моей жизни большое событие. Правда, в то время я не считал его большим. У меня заболело горло, и я направился в поликлинику. Было раннее, очень холодное утро. Я шел по проспекту Тимирязева. Фонари освещали березы, покрытые инеем.
И вдруг среди встречных людей мелькнуло знакомое лицо:
— Ирма!
— Леня!
Никак я не ожидал встретить ее здесь. Однако мы встретились и не могли расстаться. Оказалось очень многое нужно рассказать друг другу.
Ирма дала свой адрес. Потом я часто приходил к ним в тесную комнатенку на Новгородской. Жила она тогда с родителями, сестрой Эльзой и братом Альфредом. Училась в Университете…
Конечно, я тогда не думал ни о чем дальнейшем, просто рад был, что встретил знакомого человека. Не думал, хотя сама судьба упрямо подталкивала нас друг к другу. Сперва мы воспитывались в одном детском садике, потом учились в одной школе. Затем и она и я поступили на истфак СГУ, и, наконец, были высланы в один и тот же сибирский город.
Ирма рассказала мне, как они уезжали из Саратова.
Последние дни августа. Нам было сказано: подготовиться. А как подготовиться к такому? Посуду, книги, настенные часы отдали на сохранение знакомым. Мебель вынесли на улицу для продажи. Но торговать стеснялись, да и не умели. Хорошо, что вызвались добровольные помощники — соседи.
Вообще говоря, саратовцы проявили к немцам и симпатию и сочувствие. Утешали, уверяли, что тут какая-то ошибка и все скоро вернутся обратно, чем могли помогали в сборах. Многие приносили продукты, деньги. Причем зачастую среди этих людей были не только друзья и родственники, а просто соседи с той же улицы, иногда, даже незнакомые! Добрые, милые люди…
Только квартирная хозяйка Ионкина выскочила на крыльцо и закричала:
— Что за базар здесь устроили?
Но ее старшая дочь Нина увела ее, стыдя, что у людей такое горе, а она устраивает им, соседкам, которые взялись продавать что можно из вещей, скандал.
Отец, укладывая самые необходимые вещи в большой сундук, считал, что не доедут они до места живыми, что где-нибудь пустят их состав под откос (слишком уж страшные обвинения фигурировали в Указе о переселении). Чтобы осталась какая-то память о сгинувших, он написал на крышке сундука: «Дамер Петр Петрович из Саратова». Но самым тяжелым было не то, что бросали на произвол судьбы нажитое тяжелым трудом — хорошая обстановка, отличная библиотека. Тяжелее всего было сознание, что тебя изгоняют из родного города.
Читать дальше
![Леонид Гартунг Нельзя забывать [повести, сборник] обложка книги](/books/406023/leonid-gartung-nelzya-zabyvat-povesti-sbornik-cover.webp)