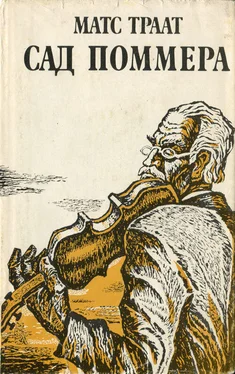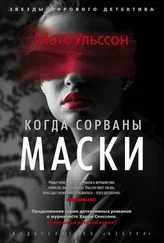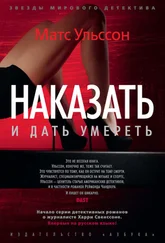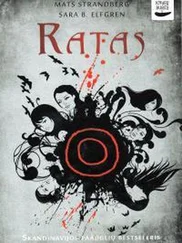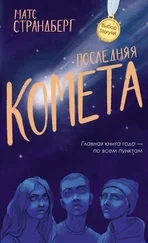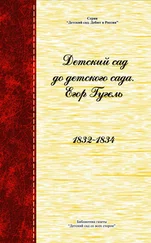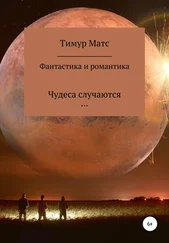Кризис национального движения обусловил идейный разброд в эстонском обществе. Некогда столь привлекательные идеи этого движения к 1890-м годам безнадежно устарели и не могли указать выхода из противоречий жизни. Новые же системы взглядов еще не были выработаны. В этой обстановке пышно расцветают беспринципное делячество, продажность, словоблудие, распространенным становится убеждение в том, что главное в жизни — это забота о самом себе, а интересы общества и народа — пустой звук. Правда, в газетах еще иногда повторяются старые лозунги об «общем деле», о необходимости единения всех эстонцев, но теперь эти, когда-то порождавшие энтузиазм призывы лишь маскируют корыстное буржуазное содержание их. Все это вызывает у людей мыслящих разочарование в патриотических лозунгах, в призывах к служению народу нации. Это разочарование отчетливо чувствуется и в раздумьях Яана Поммера.
Собственно, нечто аналогичное испытывала и передовая русская интеллигенция той поры, хотя перед ней и не вставала проблема национального освобождения, столь важная для эстонцев. В. В. Вересаев, учившийся в эти годы в Тартуском университете, позже вспоминал: если раньше «общее настроение студенчества было нерадостное и угнетенное, то теперь, в конце восьмидесятых и начале девяностых годов, оно было черное, как глухая октябрьская ночь. Раньше все-таки пытались хвататься за кое-какие уцелевшие обломки хороших старых программ или за плохонькие новые — за народовольчество, за толстовство, за теорию «малых дел», — тогда возможна еще была проповедь «счастья в жертве». Теперь царило полнейшее бездорожье, никаких путей не виделось, впереди и вокруг было все заткано, как паутиной, сереньким туманом, сквозь который ничего не было видно».
Однако в Эстонии вся тяжесть сложившейся обстановки была еще во много раз усилена реакционной политикой русификации окраины, к последовательному проведению которой царизм приступил во второй половине 1880-х годов. Новый политический курс царизма должен был ликвидировать обособленность Прибалтики и подготовить почву для полного слияния края с царской Россией, под чем наиболее последовательные проводники новой политики — такие, как эстляндский губернатор князь С. В. Шаховской, — понимали обрусение местного населения и его переход в православие. В этом отношении показательны в романе размышления инспектора народных школ по пути на станцию после ревизии.
Карл Поммер в романе пересказывает отцу слова одного из преподавателей Тартуской учительской семинарии о том, что эстонский язык не имеет будущего, он скоро исчезнет и лет через пятьдесят все эстонцы будут носить русские рубахи навыпуск, танцевать на русский лад и петь «Дубинушку». Эти высказывания весьма точно отражают убеждения русификаторов. Кстати, они и не придуманы писателем.
Русификация включала большой комплекс правительственных мероприятий. Одним из наиболее типичных проявлений этой реакционной политики царизма был перевод всех школ Эстонии и Латвии на русский язык преподавания. Эта мера очень затруднила получение образования для эстонских детей. Для многих из них она вообще стала непреодолимым препятствием на пути к знаниям.
Русификация совпала с общим усилением реакции в Российской империи, что еще более усугубило тяжесть новой политической линии царизма для эстонцев. Под напором властей, преследующих любые проявления эстонского национального сознания, прекращаются все крупные общенациональные мероприятия, закрываются Общество эстонских литераторов, многие другие организации, газеты, библиотеки. Вызывают подозрение чуть ли не все формы выражения общественной активности, невиннейшие проявления свободолюбия. Встает вопрос о возможности самого существования эстонцев как самостоятельной нации. Некоторые эстонские общественные деятели вроде издателя газеты «Олевик» (ее, между прочим, читают герои романа) А. Гренцштейна начинают прямо выражать сомнения в возможности национального развития такого маленького народа, как эстонский.
Все это усиливало идейный разброд в обществе. «Не было особенно веры ни в возможность общих мероприятий, ни в возможность сопротивления, — вспоминал замечательный эстонский писатель Ф. Туглас. — Учение о покорности и непротивлении Гренцштейна отнюдь не было лишь проявлением его личной мудрости. У него были значительно более глубокие корни в убеждениях широких народных масс. Ну, что мы, маленький народ! Тут ничего не поделаешь. Хорошо, если сумеем выжить, хорошо, если хутор не пойдет с молотка и удастся спасти сына от солдатчины… Ощущение экономических трудностей, бесправия еще не выливалось в мысль о протесте». Оно, скорее, вызывало настроения пессимизма, разочарования, безнадежности. И это читатель почувствует, знакомясь с размышлениями главного героя романа о родине и родном языке. Ощущение безвыходности создавшегося положения особенно болезненно переживает сын старого учителя — семинарист Карл Поммер.
Читать дальше