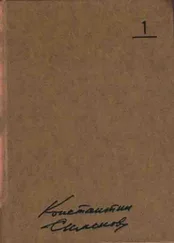Терпеть дальше было невозможно, и наконец, гремя кандалами, Дарья вырвалась из заточения — чья-то сильная рука подхватила ее, и она влюбилась в эту руку.
Адам так помнил бывшую жену, что даже ту самую «руку» полюбить себя заставил, хоть в нем и вскипал дантесов гнев. Первое время грешил по-всякому, изощренно, любопытной мастью, — помнил. Алкоголем помнил, блудом!.. Дошел до черты — прощения у птичек попросил: «Птички Божии, птички радостные, простите и вы меня, потому что и пред вами я согрешил» — думал, все простится, зачтется, где нужно. А чтобы грешок подсластить, устроил он великое представление — покаялся. В церковку, как в лечебницу, шажками робкими заплелся, свечечку поставил — это чтоб непременно все видели, как он это делает. Даже эту свечечку повыше поднял, молитвочку про себя промурлыкал. Усмехался внутренне, видя там на себя похожих, простуженных душевно, тех, которые «свечечку повыше». Хвастал: первый раз грешишь — бормочет совесть, моралью грозит; а дальше… дальше легче, «дышится» свободнее: сам себя «развяжешь», будто уже дозволено, — сам себе дозволил. И чтобы поскорее грехи отмолили, Адам священника спросил, — чтобы тот ему одним главным словечком ответил, пускай оно давно было сказано в нем самом.
Он пришел во храм Божий в рассудке помутненном, скованным шагом. Небо казалось «с овчинку»… полная безнадега. Тогда еще, где-то за апсидами внутреннего гнева и непринятия, за глухой стеной прагматизма, он истинно верил в Бога на земле, он ждал чуда, жаждал видеть! «Ну что он скажет мне, священничек-то? А вдруг скажет такое… спасительное?!..»
В нежной зелени майской листвы стоял четырехстолпный одноглавый храм на подклете: пышный, нарядный и торжественный — юдоль-сказка. Перед входом в храм Адама задержала рука цыганки, ее смуглое лицо о чем-то назойливо увещевало. Он постепенно выходил из сомнамбулического оцепенения, видя всех этих наглых попрошаек, жмущихся в «вратам райским». Кучковалась тут всякая калечь, рядками жалась к сырому забору, — жалобила богомольцев. Невидимое, которое незаметно опутывало и пленило душу до сих пор, растворилось в одночасье: светлые лица, в которых искал святости, Адам нашел опухшими, пристрастными к «зеленому змию». «На подсознательном уровне я хотел „грязи“, и я находил эту грязь, ликуя, как победитель. Но где и кого я победил — я точно не знал».
Адам прошел через людскую толпу, как Моисей через Чермное море. Поднялся по высокому крыльцу…
Во храм ли вышнего с толпой он молча входит,
Там умножает лишь тоску души своей.
При пышном торжестве старинных алтарей,
При гласе пастыря, при сладком хоров пенье,
Тревожится его безверия мученье. 5 5 А. С. Пушкин
В нос ударил бальзамический дым ладана: поначалу непривычный, диковинный, как сладкая «конфета для души». Над головой раскинулись росписи высокого купола, и несмелый утренний свет, рисовавший кисточками в храме, давал фрескам жизнь. Кадило, свечи… и духота. Голова «ходила»… дурно было, всюду мерещилось, «гудело». «Но все было „слишком чистое“, наивное, — вспоминал Адам в „откровениях“, — мира заколдованного. Это и вывело меня из себя. Тут как бы „раздвоение“ меня случилось. События последних месяцев, безликие дни, окрашенные моими гадкими поступками, и тут еще — набожный народец, „святоши“, — все здесь сошлось в одну точку, и как будто „толкнуло“ меня что-то в эту точку. Ошпарила кипятком, эта другая реальность».
Люди робко поднимались на солею и лобзали огромный резной иконостас. Взывали, воздыхая: «Боже, очисти мя, грешного!» Служили очень благолепно. Хор пел что-то непонятное — «невнятные песенки». Батюшки ходили: входили и выходили из алтаря с видом строгим. Восклицал басистый дьякон… всходили на амвон, возводили орарь над молящимися. Некоторые книгу читали — молитвы. Кто-то с четками, кто-то с листочком «с грехами» — прижимал, чтоб никому не показать: подошел — повернулся, поклонился всем — «простите, Христа ради». В ответ говорят: «Бог простит» — это тихо… Лица преображались, и все умалялось, становилось маловажным.
«Это все мы?!.. Все — неправда! Или что же?.. Бог?!.. Иное измерение, новое, неизвестное: я ощущал это и сопротивлялся. Во мне ежилось, брыкалось, билось истерически… — демоническая сила: не хочу! не принимаю! Страсть лишь, колдовское удовольствие, душевный обвал, острое наслаждение: из этого „обвала“ думал я страшные слова, ругал самое священное, называл „пустячком языческим“, „морфием для наркоманов“… и не знал еще, какое „движение“ началось в душе моей. Гнал Его вон из души, а в душу вбирал… другого !..»
Читать дальше