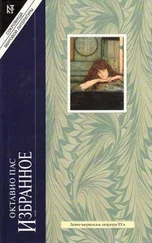* * *
Еще в девятнадцатом веке, рискнув во времена финансовой паники всем своим состоянием, прапрадед Мари Дрюар Миньон купил этот дом, и теперь он принадлежал ей – три этажа над пекарней, крутая мансардная крыша без единого окна на улицу, но с тремя зарешеченными вентиляционными жерлами на месте слуховых окон. Единственное крошечное оконце глядело в сад. Еще в двадцатых, когда дела шли как нельзя лучше, Луи устроил в мансарде уборную – даже до того, как установил туда лестницу, – тогда как раз меняли всю сантехнику и трубы, и подрядчик предложил оборудовать удобства и на чердачном этаже, вдруг когда-нибудь кто-то там поселится.
Заслышав гул грузовиков и тяжелой бронетехники, Луи поспешно завел Филиппа и Катрин внутрь, запер дверь и выглянул на улицу сквозь дверное оконце – влево, потом вправо.
– По нашей улице не едут, – сказал он и внимательно оглядел своих нежданных гостей. – Она еврейка? – спросил Луи у Филиппа.
Не было ни капли враждебности или неприязни в этом необходимом вопросе. Рыжеволосая красавица Катрин все же сильно отличалась от рыжеволосых бретонок или нормандок. Заметно отличалась.
– Мы оба евреи, – ответил Филипп.
– Вы похожи на голландца. Я бы хоть на что поставил.
Филипп на самом деле был высок ростом и белокур.
– Вполне сошли бы и за немца. Вы из немецких?
Филипп покачал головой:
– Из голландских. Давным-давно наши предки переселились во Францию. У нас много голландских евреев.
– Чего вы от меня-то ждете? – спросил Луи.
– Ничего.
– Вам есть куда податься?
– Нет.
– Ни синагоги какой, ни других евреев? Говорят, евреи всегда везде поспевают.
– Да, конечно, взять вот нас, к примеру.
– Разве вы не поддерживаете своих?
– Когда можем, поддерживаем. Но вот прямо сейчас самые богатые и могущественные евреи Парижа держат путь к Пиренеям, может, даже топают пешком. У кого-то бриллианты зашиты в подкладке, но нам это сейчас совсем не поможет.
– Что будет, если немцы вас увидят?
– Не знаю. Они, конечно, не жалуют евреев, к тому же, хоть это у меня на лице не написано, я убил несколько немцев с четырнадцатого по восемнадцатый.
Луи посмотрел на Филиппа другими глазами.
– Я тоже, – сказал он. – Вы из Парижа? – Он понял это по выговору Филиппа.
– Да. Приехали пополудни.
– Зачем сюда, если ни души здесь не знаете?
– Поезда в этом направлении шли пустые, и мы подумали, что проберемся отсюда в Швейцарию.
– Нет. Все пути перекрыты.
При этих его словах на лестнице показались Жак и Мари.
– Кто они? – спросила Мари.
Курчавая, белокурая, ростом она была чуточку пониже мужа. Семнадцатилетнему Жаку – долговязому и темноволосому юнцу – внезапно появившиеся Лакуры казались вестниками того, как порой оборачивается жизнь. Парнишка уже освоился, и для него все это было настоящим приключением.
– Евреи из Парижа. Мы должны спрятать их на чердаке. Лаз в потолке кладовой, заложим полку одеялами, и его не будет видно. Еды у нас будет полно, потому что немцы заставят нас печь для них, так что и эти двое… – Он глянул на Катрин. – Эти трое голодать не будут.
Мари обдумала его слова, на лице не было и тени страха.
– Но немцы каждый день будут сюда шастать за хлебом и выпечкой.
– И хорошо, – сказал Луи. – Пусть думают, что они тут хозяева. Они так обрадуются нашей выпечке, что ничего и не заподозрят, ведь для них тут будет сплошное удовольствие и все такое знакомое и близкое. Если бы я мог, то спрятал бы евреев прямо напротив будущей комендатуры. Ну-ка, – скомандовал он Жаку, – тащи лестницу.
Все воодушевились, как будто затеяли дело нетрудное и недолгое.
* * *
Мари Миньон принимала роды у Катрин, а Филипп мерил шагами сумрачное пространство чердака по другую сторону простыни, занавешивавшей угол с роженицей. Филипп был растерян, обезоружен, он чувствовал себя совершенно ненужным перед женским могуществом и таинством рождения, начала новой жизни. Жюль вскрикнул лишь разок и плакал всего несколько секунд, впервые вдохнув воздух этого мира, а потом умолк, будто все понял. И четыре года после длилось молчание, сначала естественное, затем – как подражание, а потом – как игра, в которой звук, желанный превыше всего, за исключением свободы, был врагом. Они не включали воду в ванной, не смывали в туалете до самого закрытия пекарни, и у Миньонов всегда стояла наготове метла, чтобы подать предупредительный сигнал, стукнув ручкой в потолок третьего этажа, и все тут же замирало. Жюль почти не плакал, даже от боли или от страха, он дисциплинированно заходился в глубоком вдохе, затем следовали слезы и почти неслышные короткие всхлипы. Четыре года он и его родители не разговаривали, а шептали, Жюль даже не знал, что голоса их могут быть громкими и чистыми и совсем непохожими на ветер, свистящий в щелях рассохшихся оконных рам этого старого дома. Филипп бегал пальцами по грифу виолончели и водил правой рукой – чем всегда завораживал Жюля, – как будто держал в ней смычок, оставленный в футляре, от греха подальше. Филипп слышал музыку, будто она звучала на самом деле, но Жюль так не умел, и все-таки он замечал, что отец в такие минуты возносился в иные миры, свет их озарял отцовское лицо, сквозил в его движениях.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу