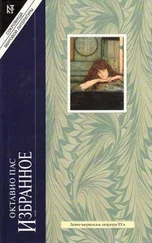Застрелив Филиппа, майор стал оглядывать улицу, держа пистолет в руке, как будто вокруг ничего не происходило. Но когда солдаты попрыгали в машины и наставили автоматы на Миньонов, ожидая приказа открыть огонь, майор заметил, что американский танк показался на бульваре в разрыве между домами в конце улицы, остановился и медленно стал сдавать назад.
– Уходим! – приказал майор. – Заводи!
Моторы взревели, солдаты упали за бронированный лист грузовика, и отряд СС, увозя с собой тела Катрин и Филиппа, рванул прочь, пока башня американского танка поворачивалась, чтобы взять их на прицел. Танк сделал один выстрел до того, как машины повернули за угол на другом конце улицы. Снаряд попал во вторую штабную машину, ее швырнуло поперек бульвара, но полугусеничному грузовику удалось скрыться за углом за головной машиной. Танк возвратил башню в первоначальное положение и продолжил свой прежний путь.
Мари подползла к Жюлю и притянула его к себе. Луи с трудом пытался подняться на колени.
– Он мертв? – спросил он жену.
– Нет, – ответила она. Кровь из левой щеки Жюля пропитала ее платье, когда она нежно прижала малыша к груди, баюкая. – Но как ему теперь жить?
Как-то он выжил. Хотя всю жизнь Жюль хотел отправиться вслед за мамой и отцом в те пределы, перед которыми не испытывал страха по одной простой причине – родители были там, хотел, разделяя их поражение, как следует узнать их, почитать их и любить их еще сильнее, он тем не менее жил на полную, до конца избывая каждый день. Музыка не давала ему сбиться с курса. Ее волшебство объясняло все его существование, благодаря музыке откуда ни возьмись появлялась отвага, музыка проясняла то, что невозможно постичь, не владея ее языком, то, что, стоило музыке умолкнуть, оставляло по себе лишь убежденность и неуемное желание, сладкую тоску, как у человека, жаждущего вернуться в прекрасный сон.
Совпадал ли ритм музыки – ровный или синкопированный – с человеческим пульсом, атомным и субатомным отсчетом времени внутри тела или симфоническим движением бесчисленных электронов в каждом нерве, сосуде и клетке или же не совпадал, ее волнообразная мелодия и повествование облагораживали и возвышали все вокруг. В молодости Жюль не смог обходиться без этого, он бы не выдержал. Так что он искал, самозабвенно учился, занимался до изнеможения, и это его спасло.
В пятидесятые-шестидесятые, когда и прибыльная карьера, и слава были доступны классическим исполнителям, его однокашники трудились ради успеха и богатства. Движимые амбициями – кое-кто до такой степени, что трудились они куда усерднее, чем Жюль, – многие пошли гораздо дальше. Франсуа делал то же самое в своей области, добился высокого и прочного положения и уважения своих коллег, стал человеком, которого жаждут все средства массовой информации, даже телевидение Индонезии. А Жюль безнадежно отстал.
Едва возникала возможность проявить свои таланты и мерещился хоть какой-то карьерный рост, он впадал в оцепенение и был не в состоянии играть перед публикой. Радость успеха ассоциировалась у него с предательством памяти матери и отца, и словно в знак верности им, держащим путь, как ему представлялось, сквозь мрак вечности, он раз за разом терпел неудачу.
Но ему хватало просто музыки. При ней тихая жизнь была куда лучше, чем блеск или богатство. Каждый верный или неверный шаг приближал его к родителям и укреплял преданность ко всем, кто был прежде и кого уже не стало. И хотя это так и не сбылось в полной мере, музыка сулила, что грехи и страдания могут быть смыты.
* * *
Другие города уже были освобождены или их вот-вот освободят, но натура Парижа такова, что, когда его освободили в 1944 году, красота его фонтанировала, словно артезианская скважина, которую немцам не удалось заткнуть. По совпадению, следуя моде или из-за нехватки красителей во время войны, парижские женщины в дни освобождения одевались главным образом в белое. Шагая во главе праздничных колонн в простых своих белых платьях, они напоминали ангелов. Освобождение сделало грязное чистым, и люди, никогда не испытывавшие счастья, внезапно узнали, что это такое.
Послевоенный Париж был детищем довоенного Парижа и Парижа во время войны, и мало какие потрясения или эмоции забылись или были утрачены. Так что когда Жюль был мальчиком – сперва в Реймсе, а несколькими годами позднее – в Пасси, он жил столько на войне, сколько и после нее. Он не забыл и часто вспоминал, как восемнадцатилетним юнцом, до краев полным энергии и непобедимости, – еще до призыва на военную службу, до поросших соснами алжирских гор, до того, как впервые испытал восторг от прыжка из летящего самолета, – он ехал летним днем по Бульмишу на задней площадке автобуса, одного из тех, что, казалось, всегда были частью Парижа и которым суждено было жить вечно, да не вышло. Когда ты молод и ловок, то вспрыгиваешь на ходу на заднюю площадку и улыбаешься хмурому кондуктору – если он тебя застукает, – а он потом всучит тебе картонный билетик.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу