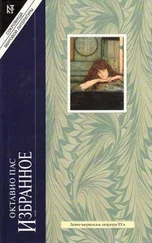– Что это? – спросил Жюль, услышав отдаленные отголоски Марсельезы.
Боясь, что песня может как-то, при трудновообразимых обстоятельствах, выдать Жюля, родители его ей не учили.
– Марсельеза, – объяснила сыну Катрин. – Это песня Франции. Люди поют ее, потому что счастливы, что немцы убрались.
Она четыре года шептала – шептала и сейчас.
А Филипп тем временем сел, зажав виолончель между колен. На этот раз у него в руке был смычок. Сейчас он заиграет, и музыка зазвучит. И Жюль услышит музыку не сквозь стены, не издалека или мысленно.
К месту было бы сыграть Марсельезу, но Филипп выбрал не ее. Он хотел, чтобы первая музыка, которую услышит его сын, отражала не просто земное величие, но нечто куда более могущественное. Филипп выбрал хоральную часть из кантаты Баха, которую перед войной он переложил для виолончели и которую, несмотря на отсутствие звука, слышал почти каждый день все четыре года пребывания в укрытии, – Sei Lob und Preis mit Ehren . Даже для еврея, скрывающегося в Реймсе, в 1944 году не имело никакого значения, что это христианская музыка и автор ее – немец, потому что она будто родилась из божественного света, эта совершенная музыка, радость, выраженная через скорбь, подобная сверкающим лучам, что прорывались сквозь мрачные тучи, озаряя их. Словно мать пела последнюю песню своему ребенку, уверенная, что, как и ее любовь, мелодия непобедима и превозможет все. Услышав музыку впервые в жизни – совсем близко и непосредственно, Жюль был потрясен и полюбил ее так, будто знал, что именно ей он посвятит всю свою оставшуюся жизнь.
Но он был не единственным, кого тронула музыка. Звук у виолончели достаточно яркий, чтобы, проникнув сквозь отдушины, наполнить собой улицу внизу, где, поначалу не слыша ее, как Лакуры и Миньоны не слышали их, осколок немецкой армии, три штабные машины и полугусеничный грузовик заглушили моторы, чтобы вслушаться в отдаленный гул тяжелой бронетехники. Словно охотники в лесу, эсэсовцы и их командир – ошметки варварской 17-й мотопехотной дивизии СС «Гёц фон Берлихинген» – замерли и вскинули головы, пытаясь определить, откуда доносятся эти звуки. Рокот танков невозможно было ни с чем спутать, он шел с северо-запада, довольно далеко. Они знали это хотя бы потому, что сами были частью дивизии панцергренадеров, от которой отделились и два месяца прослужили в Париже. Прежде всего они хотели держаться подальше от танков, хотя знали, что и ручные противотанковые гранатометы, и тяжелые пулеметы, ударив в любую минуту из любого редута или случайного укрытия, могут точно так же прикончить их.
С севера и востока доносился шум толпы, похожий на шипение океанских волн. Толпа тоже была преградой, хотя путь сквозь нее можно было расчистить, сделав несколько выстрелов. И отовсюду они слышали Марсельезу, ее пели, ее крутили на граммофонах, она сливалась в диссонанс, немилосердно терзавший пятнадцать закаленных солдат, ищущих спасения в глухих переулках. В молчании своем – неподвижные, навострившие уши, прямые и жесткие – они в точности соответствовали собственным представлениям о себе. Самодостаточные, стоические и безжалостные. Они сознательно и давным-давно перестали задумываться о войне и смерти, чтобы стать несгибаемыми и бесстрашными. Война превратилась теперь в обязанность, которая, если бы не необходимость быть изворотливым и бдительным, была для них, даже в самых жутких своих проявлениях, неотделима от скуки. Зато когда они сражались, они сражались храбро, толково и без малейших эмоций.
И тем не менее отступление совершило над ними свое незримое черное дело. Им открылось, что потери и поражение – реальность. Под наплывом чувства, что часто приходит рука об руку со смирением, они вдруг стали замечать мирские вещи и испытывать к ним сильнейшую любовь. Вот потому-то, стоя совершенно неподвижно в головной машине, задрав лицо к небу и вслушиваясь, командир отряда впервые за долгое время был задет за живое музыкой, льющейся сверху. Настолько, что он, так долго запрещавший себе подобные чувства, решил пойти и поблагодарить виолончелиста не только за мастерство, но и за мудрость и воистину христианскую добродетельность, побудившие его играть Баха, когда, возможно, никто во Франции не играл ничего, кроме Марсельезы, и тем более не отважился бы сыграть что-то немецкое. Командир эсэсовцев умилился до чрезвычайности, что было совершенно ему несвойственно. Ему хотелось быть добрым, одаривать, поделиться с тем, кто играл эту, такую близкую и знакомую ему музыку, признанием, что на самом деле они – братья, что война кончится, что существуют вещи, которые превыше всего на свете.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу