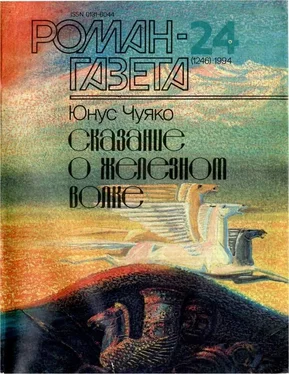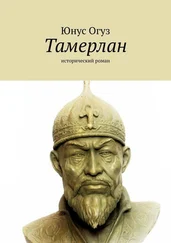— Это прекрасно, Хаджекыз, — говорил Оленин уже серьезно, но по-прежнему растроганно. — Что понятие о чести тем самым внушается мальчику с детства: вставай… Если не успеешь позавтракать до того, как удод прокричит, тебя в чем угодно напрасно обвинят… Имя свое доброе береги!
— Вставать неохота, — поддержал его Хаджекыз. — А надо вставать, надо работать… Если не приучили с детства — потом поздно.
И тут до моего слуха и в самом деле донесся этот глухой звук: как будто где-то далеко дули в бутылку.
— Тихо! — поднял я палец. — Пожалуйста, тихо… слышите?
— Это птица? — с детским интересом спросил Вильям прислушиваясь. — Удод?
Фу-фу-фу! — снова прерывисто дунули вдалеке.
— Она! — значительно сказал Хаджекыз.
— Как по заказу, Вильям Викторович!
Он грустно улыбнулся:
— По просьбе трудящихся, да, — и вдруг почти испуганно вскинулся. — Но мы ведь с вами и в самом деле не успели пока к еде притронуться… ай-ай!
Я хотел было пошутить, сказать, что, мол, да — страшное дело, что теперь с нами со всеми будет, но на лице у Оленина была до того искренняя печаль…
Это с ним бывало и раньше: вроде бы ни с того, ни с сего такая горечь появится вдруг в серых глазах!.. Раньше я всегда думал, что это — воспоминание о прошлых его несчастьях, но в тот раз у меня вдруг впервые мелькнуло: неужели это предчувствие беды?.. Правда, имел я в виду, конечно же, угрозы в этой дурацкой записке, а не то, что потом и в самом деле произошло.
Но кто же такое вообще мог предположить? И все же готов поклясться: что-то такое смутное я тогда ощутил — недаром же мне расхотелось шутить.
Может быть, и дедушка это почувствовал?
— Пусть моя рука добром тебя коснется, Вильям! — мягко сказал он, дотронувшись да плеча Оленина. — Когда я буду сегодня делать намаз, когда буду с Аллахом разговаривать, я скажу ему, что ты еще не знал этой приметы… Ты и так, наш дорогой гость… дальний гость, который стал такой близкий… Ты и так уже многое знаешь и многое стремишься понять, мы это видим… Если бы все мы так заботились друг о друге… так хотели поддержать старый обычай…
— Спасибо, Хаджекыз! — сказал Оленин растроганно.
— Ей, почему твой учитель ничего не ест? — тихонько спросила расстроенная Кызыу у меня за спиной. — Я думала, вам может не хватить кислого молока, твой учитель полюбил его, Сэт… А вы еще и это не тронули!
— Мы заговорились, нанэ. Сейчас мы, сейчас…
— И скажи твоему учителю, Сэт, что Умный Человек приходил вчера два раза… Просил напомнить ему про тот золотой курган, о котором он будто бы вам рассказывал…
— Расскажи лучше нашему гостю, невестка, чем ты заквашиваешь молоко, которое, говоришь, ему понравилось! — сказал Хаджекыз, поглядывая на меня.
— Мама просила напомнить вам, что вчера дважды приходил Умный Человек, — сказал я Вильяму Викторовичу. — Хотел напомнить о том самом кургане, о котором он рассказывал, помните?.. Золото валяется, мол, даже вокруг него…
— А-енасын! — легонько взмахнул пятернями Хаджекыз. — Валяется точно так же, как опилки вокруг могилы Тлепша… все усыпано! Довезут ли наши лошадки мешки с золотом?.. Самим придется обратно пешком, ым?
— А дедушка говорит, пусть лучше мама расскажет вам, чем она молоко заквашивает…
— Чем, чем же? — глянул на маму Вильям Викторович.
— Не только невестка — весь аул, — поправил Хаджекыз.
— Весь аул, да. Заквашивает молоко побрехушками Умного Человека…
— То есть? Что значит побрехушками?
— Расскажи, нанэ! — попросил я по-адыгейски. — Как ты его заквашиваешь…
Мама поднесла к губам сморщенную ладошку, тихонько зашептала:
— Иди сюда, вся брехня Рамазана, иди сюда, собирайся — вся ты тут?.. Бросаю тебя в наше молочко — неужели от такой брехни ты не скиснешь? — Оторвала ладошку от губ, затрясла ею над кувшином, который только что принесла: — Скисай, скисай, никуда ты не денешься — скисай!
Я переводил, а Оленин все смотрел радостными глазами — то на меня, то на Кызыу.
— И оно… скисает?
— Если заквасить его брехней — скисает даже в ту единственную в году ночь, когда оно не должно скисать! — с нарочитой уверенностью объяснил Хаджекыз.
— А… есть такая ночь?.. Одна в году, говорите?
— Самая короткая, да… В июне, — сказал Хаджекыз. — Та самая, будь она проклята!
— Ах да, да, — нахмурился и Оленин. — Понял, я понял… Двадцать второе!
— А видишь, Вильям, как мирно называется она у адыгейцев: ночь, когда молоко не успевает скиснуть…
Читать дальше