Я же не мог ответить ему ненавистью. Направился, было, к двери, но на пороге обернулся и спросил:
— Отчего тогда ваш выбор пал на меня?
Он ответил:
— Ты говоришь на языке болгар-богомилов, ты убил Робера де Ронсуа и ты алчен.
1
Первый день миновал. Остаются еще четырнадцать для того, чтобы записать воспоминания мои. Было у меня пятнадцать дней и один потрачен на эти первые страницы. Воспоминания настолько завладевают мной, что я забываю, где я. Звучащие вокруг песнопения не мешают мне.
В сущности, в моей власти решить, осталось у меня четырнадцать дней или, скажем, четырнадцать лет. Но я с беспощадной ясностью сознаю, что если откажусь от имени, каким ныне зовут меня, то не вправе я буду повествовать о богомилах или же делать это следует совсем иными словами.
Тех, о ком я пишу, давно уже нет на земле. Называя чье-то имя, я тут же говорю себе: «Я пережил его». Средь такого множества умерших, человек начинает робко и боязливо верить, что он и сам смертен. Однако я чувствую себя ныне более живым, чем когда-либо прежде. А коль суждено мне навсегда исчезнуть, то не все ли равно, произойдет это через четырнадцать дней или четырнадцать лет? Поющие вокруг меня люди убеждены, что никогда больше не вернутся в тело свое. Другие же — те, кто готовятся лишить меня жизни, верят в свое воскресение. Думаю, что все мы окажемся, к изумлению своему, в одном и том же месте — там, куда никак не ожидали попасть.
Дыхание мое спокойно, сердце бьется ровно, как у младенца. Левой рукой я пишу быстрее, чем мог ожидать. И, значит, успею рассказать больше, чем рассчитывал. Можно не спешить. Можно не спешить…
Хотелось бы мне писать сдержанно и мудро. Чтоб воспоминания мои были прозрачны, как вода, долго стоявшая в серебряном сосуде, где вся муть давно осела на дно. Однако выходит иначе. Воспоминания, точно горный поток, увлекают меня за собой, бьют и бросают о камни и лишь изредка выносят к тихому омуту, и тогда я облегченно перевожу дух и вижу небо.
Признаюсь: я написал так, как написалось. Возвращаться к уже написанному, думать, поправлять не будет времени. Вспомнилось мне, как король, коснувшись мечом моего плеча, произнес: «Делай, что должно, а там будь, что будет».
2
Итак, я понял, отчего папа избрал для поисков Тайной книги меня, бедного странствующего рыцаря, коему суждено живому — не иметь крыши над головой, а мертвому — могилы.
На стене нашей трапезной красовался гобелен, благородно потемневший от пыли и дыма, хоть и висел поодаль от очага. На гобелене молодая дама заплетала волосы — одна половина их золотым водопадом ниспадала до пола, а вторая была уже заплетена в золотую косу. Над головой у нее цвел розовый куст с тремя алыми розами. А перед нею сидел рыцарь, весь закованный в доспехи, с зеркалом в руках. На флажке, укрепленном на его копье, алели такие же три розы. А позади него бил копытом оседланный конь с золотым крестом на лбу.
При каждом взгляде на этот гобелен, или даже при одном воспоминании о нем слышалась мне негромкая песня, голоса трубадуров и звуки лютни. Этот гобелен с самого моего детства и вплоть до побега из родового замка опускался, точно завеса перед моими глазами и уводил из жизни в мечту.
Когда отправился я в странствия по белу свету, гобелен стал ветшать. Нити его истончались, а затем стали рваться. Сперва смутными тенями, позже все отчетливей и отчетливей стали вырисовываться на нем существа иного мира — полузвери, полулюди — сплетавшиеся в борьбе и похоти. Дама и рыцарь застыли недвижно, а тени эти двигались, сгущались и то наливались, то истекали кровью. Где-то вдалеке за этим гобеленом вроде бы забрезжил другой, сотканный каким-то третьим миром, и чудилось, что там тоже звучит негромкая песня, но сонмище шкур, клыков и когтей не дает мне приблизиться, разглядеть, что́ кроется за этой новой завесой.
Еще отроком — большого роста, но малого ума — оказался я как оруженосец в царстве Иерусалимском. «Иерусалим есть пуп земли, он как бы второй рай. Тот, кто здесь уныл и беден, там будет радостен и богат», — было сказано папой. Я поверил ему. Чтобы впоследствии увидеть, как погибающие от жажды рыцари пьют то, что сами исторгают из себя; как съедают они трупы своих лошадей и ездят верхом на запаршивевших быках, а щиты свои возят на истощивших баранах. Там повстречал я Ричарда Львиное Сердце, он был для меня, отрока, олицетворением рыцаря с того гобелена. И понял я, что прозвище дано ему за то, что он, как хищный зверь, разорвал на куски Мессину и прикончил беззащитную Сицилию. Да, был он отчаянно смел, но и сумасброден, алчен и жесток. С высокомерием и наглостью совершал он невероятные безрассудства, а затем пытался исправить их отвагой и силой. Он спал рядом с простыми воинами, на шее коня его висела связка отрубленных арабских голов. А прекрасная дама под розами превратилась в потерявшую от страха человеческий облик, окровавленную пленницу или в продажную портовую девку, которая по ночам снимает с тебя все, вплоть до шпор.
Читать дальше
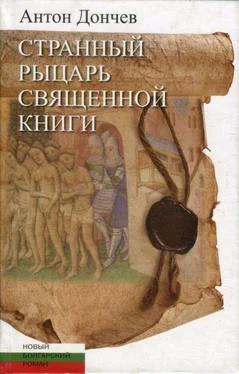



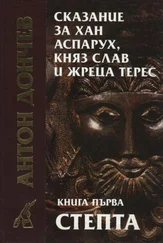



![Антон Емельянов - Темный рыцарь [СИ]](/books/433972/anton-emelyanov-temnyj-rycar-si-thumb.webp)


