– Я виноват, Люська, если б я отдал свою пьесу на радио «Голос Америки»… Я вообще кругом виноват.
Я был плохим евреем. Я так и не выучил идиш. Смеялся над плохим произношением тех, кто только с 1940 года стал гражданином Советского Союза. Когда им было успеть язык выучить? Разве что в гетто?
– Ты с ума сошел! Кто бы взял твою пьесу на «Голос Америки»? Ты прав был, Левка, в твоей пьесе не было ни капли лжи, но и не было ничего такого, чего б каждый день не случалось в Израиле. Но… Как бы тебе сказать… нельзя сор выносить из избы. Вот чего тебе не простила Кац и твой Рыжий математик – сор… И вообще, нельзя, никогда нельзя играть в чужие игры, всегда переиграют, обманут, обмажут… Зачем ты тогда остался? Зачем тебе надо было беседовать с каким-то там «Дирижаблем», разве ты не понимал, что он тебя проведет? Они способны на все. Я их боюсь даже здесь. Честно говорю, я их смертельно боюсь!
Я глядел на ее доброе детски-губастое лицо и думал о проклятом времени, которое могло довести до такого состояния человека, уже никак не связанного с прошлым отечеством. Той страны давно нет. Она сошла с ума. Но она все мстит и мстит. А жизнь по-прежнему движется вечной наивностью людей…
Я сторонился людей. Был растворен в огромной стихии ужаса, понимаемого в самом широком смысле – народ, государство, дело.
Спектакль принимала комиссия Министерства культуры тринадцать раз! Уклончивые, хмурые, хитрые морды, они каждый раз вырезали какое-нибудь слово, реплику, сцену, казавшиеся им двусмысленными. Пьеса, которой режиссеры и «режиссеры» замышляли как антисионистскую, явила свою противоположность. И члены комиссии стонали, и все кромсали, кромсали, кромсали. Я хлопал дверью и уходил. И угрожал, что снимаю свое имя. И тогда ко мне присылали гонцов и говорили, что молодой коллектив остается без зарплаты, потому что им нечего показывать, а артисты филармонии, видите ли, получают денежки в зависимости от количества спектаклей, а не репетиций. А тот самый оплачиваемый репетиционный период уже месяц назад закончился…
Я все дальше уходил от себя, терял свою единственную хорошую привычку – недопущение людей в душу. Люди окружали меня постоянно. И каждый доказывал что-то свое, одинаково для меня постыдное…
Я терялся в мутной дряни, где были намешаны неудовлетворения, стыд – страх разоблачения, которое произойдет, когда пьеса появится на сцене. Что-то я не доделал. Не закрутил какую-то гайку на нужный виток. Зачем было соглашаться на пьесу? Зачем было отстраняться от постановки, ведь чувствовал же, что случится что-то гаденькое…
Позвонила Мила.
– Молодец, старик, – сказала она. – Я рада, что классовое чутье в тебе взяло вверх. Если подумать, то что-то может у нас склеиться…
– А если я задеру тебе юбку где-нибудь в темном углу? Ты что, уже не боишься забеременеть?
– Так хамски могут разговаривать только знаменитости, – сказала она тоскливо.
– Понимаешь, Милочка, – сказал я, напрягаясь, – каждая баба, даже самая дурная и подлая, хочет что-то отдать понравившемуся ей мужчине, хоть какую-то частичную девственность. Ты уже подумала, какую часть своего тела ты можешь отдать в мое распоряжение? – продолжал хамить я.
На премьеру я не пришел, сказавшись больным. Люська сидела со мной рядом и плакала. А потом было утро без зари. Прямо с утра начинался новый вечер. Я бы десятки раз погиб, сорвался с края, если б рядом не было Люськи. Казалось, она воплотилась во все вещи, во все явления, во всех животных, во всех женщин, которые мне когда-либо нравились, хотя я должен признаться, что никто больше не производил на меня такого впечатления. Рядом с ней я жил в мире, населенном добрыми людьми, чудесными вещами, восходами и закатами, достигшими совершенства.
Я жил в мире, бесконечно щедро и полно населенном ею одной.
Вместе мы пережили сладко-хвалебную статью в местной и даже в центральной прессе. Я цеплялся за Люську как за то единственное, что еще могло противостоять хаосу в моей жизни.
Мы были вместе, чтобы любить. И мы любили с таким доверием и близостью, словно родили друг друга. Любили с ревностью, с ненавистью за эту проклятую пьесу, которая была третьей даже в нашей постели, с чудовищными оскорблениями и примирениями, лучше которых ничего нет, с непрощением и всепрощением, мы говорили друг другу слова, которые были бредом и были счастьем, и, утомленные, засыпая, каждую ночь снились друг другу…
– В общем, все глупо, – сказала Люська. – Глупая жизнь, глупенькие люди… Ты приехал тогда ко мне в Одессу на гастроли. Из Одессы вся семья уезжала в Израиль. Еще тогда ты мог уехать с нами… Со мной… Ни о чем другом я не мечтала… А ты все время говорил, что не сможешь жить без Пушкина. Без этого памятника на Ришельевском бульваре. Без этой дурацкой истории Пушкина и Воронцовой…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
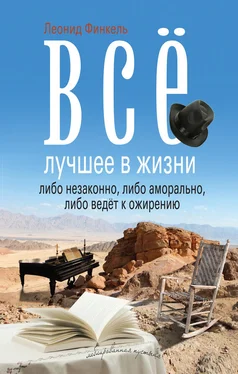

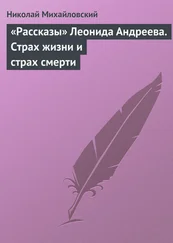
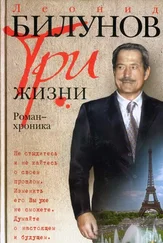





![Леонид Финкель - Всё лучшее в жизни либо незаконно, либо аморально, либо ведёт к ожирению [Авторский сборник]](/books/403704/leonid-finkel-vse-luchshee-v-zhizni-libo-nezakonno-thumb.webp)


