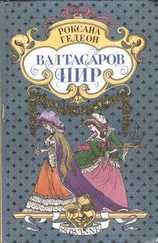— А в милиции ты сказал бы? — приставал Хаза. — Да или нет?
— У меня совесть абсолютно чиста, — ответил Анджей. — И из моих слов это было бы совершенно ясно. Но если б я выложил все, как есть, то выдал бы других.
Незаметно к ним подсел Дубенский — по телу его струйками стекала вода. Он расслышал последнюю фразу.
— А если вы захотите остаться в тени, сами угодите в тюрьму. Это, если можно так выразиться, закон светотени, на котором зиждется наше общество. — Он демонстративно развел руками, многозначительно глядя на Хазу. — А впрочем, иногда имеет смысл и самому сесть за решетку, чтобы других выгородить, дать им на свободе пожить. N’est-ce pas [10] Не правда ли (франц.) .
, Хаза?
Хаза встал и, не отвечая, с недовольной миной направился к воде. А Дубенский беспечным тоном, с напускной вежливостью, а в сущности, развязностью заговорил с Уриашевичем:
— В наше время надо реально представлять себе свое будущее. Нас, людей нашего круга, ждет тюрьма; да, это так. Всех, за небольшим исключением. Например, за исключением моей особы — с меня и одного раза вполне достаточно. Я буду сопротивляться всеми возможными средствами, лишь бы снова не угодить за решетку, inclusive [11] Включая (лат.) .
самоубийство, если прибегнуть к средневековой формуле, наставляющей монашек, до какого предела должны они свою добродетель защищать.
Хаза, стоя по шею в воде, ловил каждое его слово. Дубенский улыбнулся.
— Ему очень интересно, о чем это мы болтаем, — сказал он, указывая Уриашевичу на него. — Пересядем поближе, а то невежливо получается.
Они уселись на краю бассейна, свесив ноги в воду. Дубенский болтал без умолку.
— Люблю пофилософствовать, сидя у воды, — она зыбка, как и все вокруг. Как граница между самыми непримиримыми понятиями. Как граница меж бытием и небытием, между жизнью и смертью. Ты слышишь нас, Збигнев? — Не дождавшись ответа и удовольствовавшись лишь его миной, он продолжал: — Взять хоть тюрьму. Вроде бы существует человек и вроде бы нет. Вроде он жив, но разве назовешь это жизнью и вообще бытием. Разве это уже не начало умирания, которое распространяется на всю последующую жизнь. Даже на тот ее отрезок, когда человек окажется на свободе. — Он кинул на Хазу издевательский взгляд: на эти посиневшие губы, мокрые, облепившие лицо пряди, на его маленькие, близко посаженные глазки, в которых метался страх. — Ужасно Хаза не любит, когда я поминаю при нем, что в тюрьме сидел, а я вот люблю. Мне особое удовольствие доставляет говорить в его присутствии о подобных вещах. Пугается-то как, ну просто душка! Да посмотрите же, забавная какая рожа! — Улыбка сбежала с его лица. Дубенский плотно сжал губы, но заставил себя пошутить еще раз, как бы через силу: — Ну, чем не водяная лилия, оцепеневшая от ужаса, что ее вот-вот сорвут? — И, оставив Хазу в покое, он перевел взгляд на Уриашевича. — Вы не плаваете? Не признаете водного спорта?
— Признаю, — ответил Анджей. — До войны я все лето проводил на Хельском полуострове. С утра до вечера на парусной лодке. У меня собственная была. А в последние годы друг брал меня с собой на моторке, отличный был мотор у него, настоящий зверь: пятьдесят лошадиных сил!
— Ого! — с напускным восхищением воскликнул Дубенский. — Раньше у меня тоже имелось кое-что. А сейчас из всего необходимого для водного спорта осталась в моем распоряжении лишь вода. Пойдемте поплаваем в ее волнах.
Они подплыли к Хазе и втроем несколько раз вдоль и поперек пересекли бассейн. Потом присели отдохнуть.
— Чего так запыхался? — Дубенский окинул Хазу критическим взглядом. — Пловец ты неважнецкий. — Затем вернулся к постоянно волновавшей его теме, которую затронул в разговоре с Уриашевичем. — Ба! У меня и автомобиль был, и особняк, и конный завод, и сотни других великолепных вещей и все к чертям полетело из-за войны, немцев и демократии. Эта последняя и самое дорогое обесценила — герб моих предков. — Ему показалось, что Уриашевич слушает недостаточно внимательно. — Écoutes bien! [12] Слушайте хорошенько! (франц.)
— воскликнул он и напыжился. — Прадед мой был комиссионером, дед нажил состояние на торговле лесом, а отец землю купил, дворянское звание и титул. После чего женился в Париже на княжне, заметьте: испанской. Поистине перст судьбы. С той поры в высшем обществе, куда мы, Дубенские, получили доступ, восточная наша внешность уже больше никого не шокировала. — Он силился представить все это в комическом свете, но в голосе его и взгляде было нечто помешавшее Уриашевичу и Хазе улыбнуться. — И, однако, после революции мы остались в полном смысле на бобах. Вы только представьте себе, какой путь пришлось проделать моим предкам — от конторы до женитьбы на княжне! И все насмарку. Мы опоздали. Вскочили в последний момент в автобус, а он отправлялся в парк. — Он вздохнул почти без наигрыша. Но тотчас же опять взял насмешливый тон. — И вот я одинок, как перст. Родителей с братьями и сестрами украинские националисты убили в имении под Пшемыслом, дальних родственников со стороны отца гитлеровцы уничтожили, семью матери — испанские анархисты в гражданскую войну. Так что перед вами — круглый сирота. — С этими словами Дубенский поднял указательный палец и торжественно обратился к Хазе: — В случае моей смерти поручаю тебе разослать faire-part моим знакомым и друзьям. Подпишешь так: «С глубоким прискорбием извещает друг покойного»… Друг? А может, лучше товарищ по партизанскому отряду? И еще конкретней: по отряду, который действовал под Живцем, точнее — под Замостьем.
Читать дальше
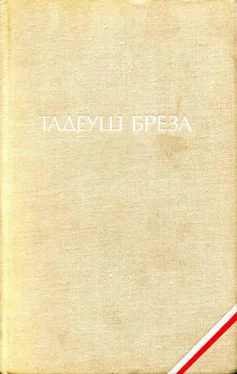


![Филип Фармер - Пир потаенный [ Пир потаенный. Повелитель деревьев]](/books/86330/filip-farmer-pir-potaennyj-pir-potaennyj-poveli-thumb.webp)