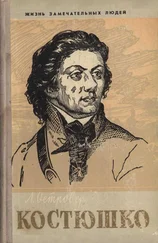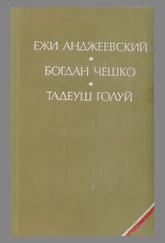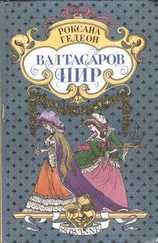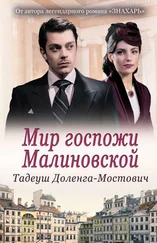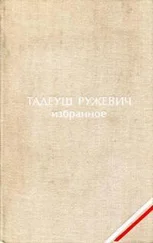— Пожалуйста, продолжайте!
Зато я четко и связно изложил суть конфликта между епископом Гожелинским и моим отцом. Это уж верно. Без отступлений, без разбега, не касаясь предвоенного периода и лет оккупации. Самое важное — дать представление о нынешней ситуации. Об этом можно было рассказать в нескольких словах. А именно: епископ Гожелинский лишил отца возможности заниматься своей профессией на территории епархии. Отец перестал ходить в курию и выступать перед консисторией. Воспользовавшись полнотой власти, которой обладает епископ во всех церковных вопросах на территории своей епархии, Гожелинский фактически лишил отца не только положенных ему специальных привилегий, но и обычных прав консисториального адвоката.
Я сказал, что епископ человек злопамятный и темперамент у него кипучий. Он вернулся из лагеря Дахау физически надломленным, но психически и умственно не изменился. В первой же проповеди сразу наметил свою программу, объявив, что остаток сил, которые ему сохранил бог, использует для борьбы с его врагами. Он сказал также — и позднее не раз повторял, ибо эта формула, по-видимому, пришлась ему по вкусу, — что всегда мечтал о мученичестве, и в детстве и впоследствии, когда уже стал священником, но для того, чтобы принять мученический венец, ему пришлось бы бросить епархию. На старости лет, по божьей милости, ему не надо искать своих палачей где-то далеко, они найдутся совсем рядом. Епископ дышал ненавистью, произносил провокационные речи. Образ мышления у него был средневековый. Дипломатичностью он не отличался. Жил как святой. Пользовался у людей большим уважением, особенно у тех, кто его мало знал. Подчиненных он угнетал своей суровостью. С «мягкотелыми» был беспощаден. А к «мягкотелым» он причислял всех, кто не разделял его взглядов и не одобрял его тактики. Таких было много среди духовенства — и в приходах, и в его курии. Епископ их преследовал.
В конце концов ему предложил покиниуть Торунь и поселиться за пределами епархии. Он на это не согласился. Ослушался. Однажды перед его дворцом остановилась машина. Епископа интернировали. Он провел два года в маленьком городке на Люблинщине. После событий 1956 года он вернулся, ничуть не изменившись. Только еще сильнее возненавидел «мягкотелых», которых застал на разных постах в своей епархии.
Мой отец принадлежал к их числу. Пока епископ отсутствовал, власть осуществлял избранный капитулом каноник Ролле, который без помощи моего отца, наверное, растерялся бы в той обстановке. Он доверял отцу, а отец уважал его. Они очень отличались друг от друга: отец — немножко космополит, Ролле — человек простой, без взлета, но гуманный, здравомыслящий, что как раз и сближало его с отцом. Как и отец, он не был политиком. Как и отцу, ему не очень нравились новые порядки. Но Ролле, не в пример Гожелинскому, не считал все происходящее вокруг сплошным безумием и обманом, пустой видимостью, которую, по словам епископа, те или иные силы в один миг сотрут с лица земли. Напротив, по его мнению, новая действительность есть нечто устойчивое, с чем, хочешь не хочешь, надо считаться. За два года не было и дня, чтобы отец не посетил Ролле или не готовил у себя дома какие-либо материалы для него. Вот в чем состоял грех отца, за который он теперь расплачивался. Когда вернулся епископ. Ролле сразу отстранили от всех дел в курии, а перед моим отцом постепенно, мало-помалу закрылись двери канцелярий и управлений в епископском дворце.
Я кончил. Воцарилась тишина. Отец де Вос встал.
— Мне уже пора. — сказал он. — Оставьте, пожалуйста, в дежурной комнате свой адрес и телефон.
Я чувствовал, что нельзя больше его задерживать и о чем-либо спрашивать. На прощанье он быстро, легко прикоснулся к моей руке. При этом добавил:
— В случае чего я вас разыщу.
Я остался один. Настроение неуверенности еще усилилось, когда я очутился в первом зале. Один из многочисленных бюстов, стоявших здесь, изображал кардинала Эрле. Раньше, подходя к указанной мне двери приемной, я его не заметил. Теперь я сразу его узнал. Снимок этого бюста помещен в монографии Эрле, подаренной мне отцом. Крупный ученый, в свое время префект Ватиканской библиотеки, он был автором монументального труда о книгохранилищах апостольской столицы. В этом труде он исследовал также происхождение термина рота применительно к папскому трибуналу. Его трактовка получила признание. Мне же она показалась ошибочной. Теперь его бронзовое сухое лицо с глазами без зрачков, как у греческих скульптур, напомнило мне, что я забыл попросить у отца де Воса рекомендацию в библиотеку. Кампилли от этого увильнул. Пока я был у де Воса, мысль о библиотеке вылетела у меня из головы. Телефон и адрес я, по его совету, оставил в дежурной комнате, хотя без особой надежды, и вернулся в «Ванду» в подавленном настроении.
Читать дальше
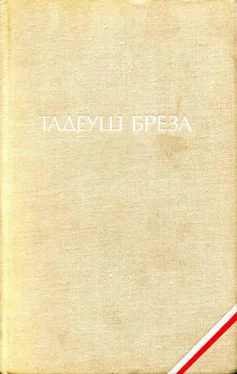

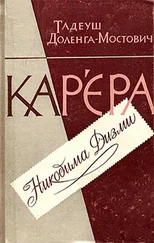
![Филип Фармер - Пир потаенный [ Пир потаенный. Повелитель деревьев]](/books/86330/filip-farmer-pir-potaennyj-pir-potaennyj-poveli-thumb.webp)