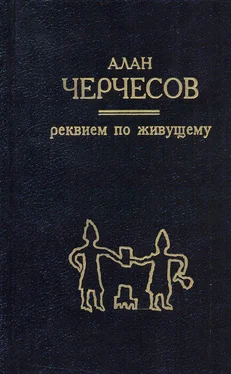Пока он умывался и ел, она следила за ним с напряженной улыбкой и несколько раз срывалась с места, уходила куда-то, но очень быстро возвращалась опять. Чтобы не спрашивать о главном, он сказал: «Я привез, что обещал. Она в хурджине. Можешь взять». Хозяйка развязала тесемки и вытащила скрученное трубкой полотно, развернула его и разложила перед собой на столе, подперев края руками. Одинокий сказал: «Этот холст самый маленький из всех, что я писал. Надеюсь, он принесет меньше зла». Она глядела на картину сухими глазами, и он оценил про себя ее самообладание. «Может, она тебе и не понравится,— сказал он, по-прежнему не спрашивая о главном.— Сперва я думал нарисовать тебя старой и уставшей с чистым лучом в теплом взгляде. Потом решил изобразить молодой и несчастной. В конце концов ты раздвоилась на моем холсте молодой Старостью и несчастьем в теплом взгляде. Но там живет и чистый луч. Конечно, тебе оно может и не понравиться...» — «Мне нравится,— сказала хозяйка.— Просто это очень больно. Спасибо тебе».
Он кивнул и свернул картину, отложил ее в сторону и посмотрел женщине прямо в лицо: «Где они?» — спросил он о главном и тут же ощутил, как у него заныла шея. Хозяйка вздернула подбородок, отчего сделалась еще прямее, улыбнулась дрожью в устах и привычным ему жестом похлопала его по руке. «Сейчас ты их увидишь»,— просто сказала она, и Одинокий почувствовал, как к его груди накатила бурной волной громкая радость. Вот и слава Богу, подумал он. А то я уж было решил...
Женщина вышла из гостиной. Ее не было минут пять. Потом он услыхал детский плач, привстал, хотел двинуться им навстречу, но замер с расстелившимся пеленой под горлом гулким сердцем. Служанка отбросила портьеру, пропуская их вперед, и Одинокий снова увидел хозяйку. На обеих руках ее лежало по белому пухлому свертку. Она приблизилась к нему и попросила: «Только взгляни на них!..» Он робко потянул пальцами за хрупкие кружева и обнажил им лица. «Та, что плачет,— девчонка,— сказала хозяйка.— А этот большей частью молчит да ухмыляется...» Одинокий смотрел на них и думал: они так малы, что их и детьми пока что не назовешь. Они так малы, что еще и не согласились стать детьми. А глаза у них такие, словно видят тебя насквозь. Словно они глядят на тебя из того мира, откуда недавно их выбросило ее криком на этот свет. «Девочка так надрывается, будто что-то у нее отобрали,— сказал он вслух.— А малышу, видать, легче. Такого трудно обидеть... Как она их окрестила?» Хозяйка не ответила. Одинокий поднял глаза. Женщина взгляда не отвела, но все же не ответила. «Погоди,— сказал он, и в горле у него пересохло.— Где Рахимат?» Хозяйка обернулась к служанке, и та приняла от нее детей, быстро вышла из гостиной. «Она не успела,— сказала хозяйка.— Ее убили роды. Она не успела их окрестить. Окрестишь ты сам. Я ждала тебя».
Она достала из шкафа со стеклянными дверцами темную бутылку и поставила перед ним вместе с парой пузатых рюмок. «Нет — сказал он.— Не хочу». Он знал, что сейчас не поможет. Он был слишком трезв, чтобы опьянеть от бутылки спиртного. Он был настолько трезв, что долго ни о чем не мог подумать и лишь отмечал про себя какие-то дешевые, неважные мелочи: крохотную точку на скатерти (наверное, кто-то из посетителей, прикуривая папиросу, выстрелил в стол обломившейся спичечной головкой), пушистый островок пыли на бронзовом крупе лошади с настольных часов (прислуга не доглядела), синие, воздушные сумерки в присмиревшем окне (словно время, зевая, скользило мимо его беды, словно времени она давно уже наскучила), подточенный походкой каблук на хозяйкиных башмаках (ступает криво, хоть и крепко, еще и носок выворачивает), резной зеленый листик на обочине ковра (дарили цветы. Но запах уже выветрился), чей-то сдавленный, на себя обозленный кашель с верхнего этажа (боится, что не сможет сегодня работать. Хозяйки боится), просторный взлет паутиновой нити у форточки под потолком (сквозняк. Распахнута дверь на лестницу), плавный, шелковый перелив света в сочную тень на платье у женщины (вечерний наряд, тщательно подобранный, чтобы угодить чужому блуду), мокрый и холодный язычок пламени в лампе (лижет лениво прозрачную льдинку стекла)...
Мелочи заслонили от него ее лицо, но оно никуда не исчезло. Оно стояло за их фальшивой, неплотной оболочкой упрямой белизной и ждало, когда Одинокий справится со своей растерянной трезвостью и заговорит. Наконец он, перестав мерить комнату голодными шагами, остановился, отер рукавом губы и сказал: «Кто из них?» А хозяйка, уловив, о чем он, ответила: «Мальчонка. Первой девочка родилась. Он второй. Мучил ее больше двух часов. А потом появился, и она умерла. Она была такая бледная, словно лишилась всей крови. И уже не улыбалась. Сделалась совсем другой. Она была похожа на святую. Или просто на женщину. Или на мать...» И он сказал: «На свою мать. А по телу ее густой струей лилось теплое молоко. Я знаю. Я уже слышал однажды... Только не думал никогда, что такое повторяется. А вы стояли у изголовья и стирали с ее тугой груди сшитыми загодя пеленками бесполезные белые ручейки. Тело ее начинало уже коченеть, а они все не унимались, и девочка, родившаяся первой, голосила навзрыд о своей уничтоженной матери, не успевшей даже ее накормить, а в это время мальчишка... Что делал в это время мальчишка?» — спросил он у хозяйки. «Улыбался,— сказала она.— Лежал себе в ногах у мертвой матери и улыбался. Ты когда-нибудь видел ухмыляющегося новорожденного?..» — «Выходит,— сказал он, запнулся, схватил ее в волнении за руки и повторил:— Выходит, он и есть истинный наследник! Ты только подумай! Унаследовать от нее не сам лишь грех невольного убийства, но и улыбку! Ну и ну!» Он снова забегал по комнате, в возбуждении продолжая бормотать непонятные для нее и страшные слова: «Выкарабкаться из чрева, выцедив прежде из него всю кровь и расправившись с собственной матерью, и, пока смерть лепит из нее святую мученицу и разглаживает ей от улыбки лицо, перенять еще и этот дикий, глупый, вечный оскал! Ты только подумай!» — вскричал он опять. Глаза его лихорадочно блестели. Когда он вновь посягнул на ее руки, хозяйка отдернула их и в раздражении перебила: «Что ты несешь? Что за грех убийства? Ты говоришь так, будто Рахимат кого-то убивала...» Он быстро закивал головой: «В том-то и штука! Он пошел по ее следам. Разница в том лишь, что мать Рахимат почила на другой день, а он свою доконал тут же, не вкусив даже от ее налитой жизнью груди. Нет, ты не понимаешь! И ничего не знаешь про спрятанную кровь. А он... Едва родившись и едва убив, поторопился перенять ухмылку!» — «Не надо так,— закричала в испуге хозяйка.— Ты с ума сошел! Ведь это дети!..»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу