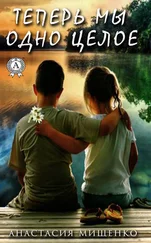Я могла бы продавать наркоту детям
или стать сутенершей.
Я могла бы нарушить любой закон.
Если б меня решили бросить в тюрьму,
Типпи тоже вынуждена была бы сесть
за решетку.
А это уже незаконный арест,
и никакой суд такое не одобрит.
Если б не моя чертова совесть,
мы бы уже были богаты.
– Простите, дети, – говорит мама,
усаживая нас на кровать,
чтобы мы не слиняли из комнаты. –
Мы переезжаем.
Мы больше не можем позволить себе эту
квартиру
в Хобокене.
Даже телефон мы больше
позволить себе не можем.
Простите.
– Ты не виновата, мам, – говорю,
пытаясь быть доброй,
пытаясь не винить ее
за потерю работы,
за то, что отправила нас в школу
и заставила в нее влюбиться.
– Простите, – она отвечает. –
Мы продадим эту квартиру и купим
жилье подоступнее
в Вермонте.
У нас там родня,
и власти штата
наверняка подыщут вам другую хорошую
школу.
– Но не «Хорнбикон», –
говорит Типпи,
не в силах кого-либо утешать
или идти на уступки.
Если честно, я ее понимаю.
Она права.
Это будет уже не «Хорнбикон».
И Джона с Ясмин там не будет.
Дракон заглядывает в комнату из коридора.
– Это, конечно, фигово, – говорит. –
Но мы прорвемся.
Она сутулится,
горбит спину
и смотрит уныло,
что совсем на нее не похоже.
Она и сама не верит своим словам.
– Тебе придется забыть о балете, – говорю
я сестре. –
В Вермонте может и не быть хорошей студии.
Дракон пожимает плечами.
В ее глазах стоят слезы.
– Прорвусь, – отвечает она. –
Буду танцевать на горнолыжных склонах.
Я щипаю Типпи за коленку.
Она поднимает глаза.
– Нет , – рычит, а потом добавляет: –
Ну ладно, может быть.
Глядя в пол,
Типпи говорит:
– Звоните той репортерше.
Голос у нее легкий,
как чистое белье на веревке.
– Звоните, – повторяет она, –
пора начинать фрик-шоу,
мать его.
– Вы уверены? – спрашивает Дракон. –
Вам заплатят за то, чтобы всякие идиоты
могли
на вас пялиться.
Вы этого правда хотите?
Роскошные красотки
ходят по подиуму в прозрачных платьях из
лески,
нежатся полуголые на пляже,
причем делают это за деньги –
и никто,
никто
не считает их поведение
зазорным.
А когда мы с Типпи решаем подзаработать
на наших телах,
все хмурят лбы.
Почему?
Она потягивает чай, который заварила
для нее мама
и болтает о всяких пустяковых вещах.
Кто бы мог подумать, что эта тетка
годами не давала покоя нашей семье, –
писала письма, СМС, звонила, –
умоляла впустить ее
в нашу парную закулисную жизнь
и позволить снять про нас
документальный фильм.
– Посадка была жесткая, – переходит она
на безопасную тему.
Никогда не слышала
столь могучего британского акцента,
как будто она пришла из 1940-х,
а не только что прилетела из Лондона.
– Самолет так грохнулся оземь,
что я думала, шасси отлетит.
А на дорогах что творится!
Просто ужас!
Она снова прихлебывает чай.
– Отель прекрасный. Вид на реку,
статую Свободы.
Я впервые в Нью-Йорке.
Столько всего надо увидеть!
Мама предлагает Каролине еще печенья.
– На сколько дней вы прилетели? –
спрашивает она.
Каролина откашливается.
– Вы хотели сказать – на сколько месяцев?
Она, словно маг и волшебник,
выуживает из-за пазухи контракт
и швыряет на стол,
точно записку с требованием выкупа.
– Мне нужен круглосуточный доступ
в ваш дом.
Здесь все написано черным по белому,
прочитайте и распишитесь.
Ручка есть, –
говорит она
и, словно волшебник, достает неизвестно
откуда ручку.
Ее взгляд становится решительным
и плотоядным.
– Зрителям интересно увидеть вас
дома, в школе и в магазине. –
Она ломает печенье пополам и сует в рот
один кусочек.
– Как же я рада встрече!
Папа сидит прямо как штык и дергает одной
ногой.
Он обещал вести себя прилично,
пока Каролина снимает на камеру нашу
жизнь,
но он же не знал,
что она пробудет в нашем доме так долго.
Папа хватает со стола контракт
и изучает его налитыми кровью глазами.
– В туалет тоже с ними пойдете? –
спрашивает он. –
А в душ? Зрителям будет интересно.
В отличие от всех нас
Читать дальше
![Сара Кроссан Одно целое [litres] обложка книги](/books/402813/sara-krossan-odno-celoe-litres-cover.webp)


![Сара Бреннан - Тропа ночи [litres]](/books/392683/sara-brennan-tropa-nochi-litres-thumb.webp)
![Сара Хеннинг - Наследницы моря [litres]](/books/402429/sara-henning-naslednicy-morya-litres-thumb.webp)
![Сара Маклейн - Искушение страстью [litres]](/books/404728/sara-maklejn-iskushenie-strastyu-litres-thumb.webp)
![Сара Орвиг - Почувствуй,что я рядом [litres]](/books/417099/sara-orvig-pochuvstvuj-chto-ya-ryadom-litres-thumb.webp)
![Сара Кроссан - Ириска [litres]](/books/432575/sara-krossan-iriska-litres-thumb.webp)