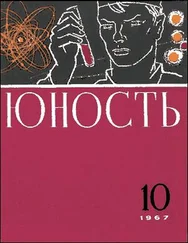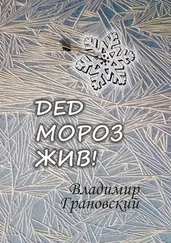Калачову сулят штрафную, вручают стакан, наливают в него водки «стогом», требуют тост. Калачов обводит глазами общество и, видимо, решает, что пора произносить давно заготовленную нобелевскую речь.
—Дамы и господа! — молвит он, и тётки приосаниваются.
По равнине безлюдного Божьего мира сквозит безликий, безымянный, бездомный демон скуки и сам себе надоедает бесконечным нытьём. И когда он сам себе надоедает до последней крайности, он отчебучивает некоторую экстравагантность — и тем живёт. А однажды он отчебучил вот что. Взял и изобрёл кроссовки «адидас». А к кроссовкам изобрёл ноги, к ногам —туловище, руки, немного поколебавшись — голову, к ней — еду, Союз демо-нографистов , фестивали, Канны, доллары себе изобрёл, призы. Затем измыслил жертву поприкольнее и воплотил её в Божьем мире при помощи двух кондитерских шприцев, называемых важно —«Конвасом» и «Кинором». Ими же, шприцами, он соорудил для жертвы маленькое разноцветное царство, из них же выдавил фигурки всяких жителей и зверюшек. И сам залез туда — пожить. Вместе с кроссовками «адидас».
Мёртвая тишина за столом. Верный Лейбниц смотрит на Петю Денежкина с вопросом — ждёт команды блокировать бунтовщика. Режиссёр, криво улыбаясь, медлит.
— Но нет ему покоя! — беспрепятственно продолжает Калачов. — И тогда он включает репродуктор и вещает собравшимся открытым текстом:
— ВЫ ВСЕ СУЩЕСТВУЕТЕ ПОТОМУ, ЧТО Я ЗАХОТЕЛ ВАС УВИДЕТЬ!
Немая сцена. Общий ступор, собравшиеся не шелохнутся. Маленький Рудомётов шепчет соседке — библиотекарше Милке: «Хочешь, покажу, где Иисус родился?». Тихонько уводит её из-за стола.
Все отмирают. Нетерпеливый выкрик весёлой бабёнки:
— Егор Иваныч! Спойте нам, спойте!
Выкрик множат разные голоса. Егор Иваныч, не в силах отказать народу, поднимается с места, упирает подбородок в могучую грудь и гудит:
— Из-за оооо!..
Бабёнка счастливо верещит:
—...страва на стрежень!..
Все подхватывают вразнобой, но с громадным воодушевлением. Голосит музей, методотдел, школа; ревмя ревёт спорт; ловит терцию пресса. Босые дети, будто наскипидаренные, с визгом носятся от стены к стене.
Петя Денежкин утомленно закрывает глаза и щёлкает пальцами. Всё исчезает.
В пустом пространстве остается один Калачов. Он стоит понуро, как царевич Алексей перед венценосным папашей. Стоит долго.
Маленький Рудомётов приводит библиотекаршу Милку в чей-то хлев. Оглядывает улицу, запирается изнутри с Милкой.
Декамерон.
Прошло два года.
Город. Зимний день, безлюдный переулок. Каркас телефонной будки оранжевого цвета, внутри — Петя Денежкин крутит замёрзшим пальцем погнутый диск телефона. Телефон упрямится, Петя прыгает в будке, как мячик, вертится. Замечает сзади знакомую фигуру. Это Калачов, он несёт под мышкой венский стул.
—О, привет!—машет рукой Петя. — Погоди, ты мне нужен.
Калачов послушно останавливается. Пообщавшись с аппаратом, Петя Денежкин выпрыгивает из будки, наклоняется к стулу.
— Что это у тебя?
— Да вот — стул нашёл. Почти целый. Венский — теперь такие не делают.
— Делают, еще лучше делают. Ну что, куда ты пропал? Как дела, давай рассказывай.
— Всё превосходно, — механически отвечает Калачов. — У меня всё превосходно. Всегда.
Беседуя, они медленно идут по переулку, входят в заснеженный парк. Петя Денежкин садится на качели, Калачов ставит рядом в снег свой стул, усаживается — руки на колени. Вид у Калачова кислый. Оба глядят вдаль.
— Н-да, — молвит Петя Денежкин. — Хреново. Ну ничего, что-нибудь придумаем. Не бери в голову.
— А я — что? — выпрямляется Калачов. — Я в порядке. У меня за полгода — три публикации. Я в порядке.
— Ну и правильно.
Молчат. Калачов вдруг:
— Да, а как с тем фильмом? Там мне ничего не причитается? Ну, про художника? Помнишь, два года назад снимали?
— Нет, там всё выбрано подчистую. Классно вышло, между прочим, зря ты не остался.
-Да?
— Недавно по ОРТ крутили. А одну картину Рудомё-това я втетерил англичанам — это был прикол! А ты чего не остался на монтаж? Или тебе не передали?
— Не знаю. Были дела, наверное, — Калачов отворачивается. — Как там Михалыч? Снял свою «Кудель»?
— Давно уж. Он сейчас рекламные ролики печёт. Дима Монькин ему сценарии пишет. Знаешь Монькина?
— Да. Молодец, в гору пошел. А Власов?
— А Власов — что? Он сам — гора, ему никуда ходить не надо.
— Как там Лейбниц? Трудится?
— Лейбниц женился.
— Да ты что! А-ха-ха-ха. — Калачов смеётся через силу. — «Куриный бог», я же говорил.
Читать дальше