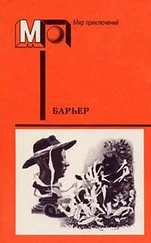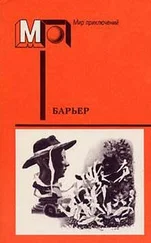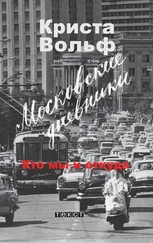Aye, aye, sir [6] Так точно, сэр (англ.) .
.
Стой! — умоляюще воскликнула Дженни, и Тусси замерла. Переливчатая голубовато-зеленая стрекоза вздумала присесть на ее оранжевую кофточку. Дженни во все глаза следила за нею. Да что это я! — сказала она, твердо решив, что больше такое не повторится, отныне она даже мысли не допустит про учителя физики, он же совершеннейшая тряпка, и она нисколько этого не скрывала. Конечно, ничего хорошего, если один человек ненавидит другого, но раз иначе не получается… Жизнь и вас уму-разуму научит, помяните мое слово! О нет, господин Кранц! Такого удовольствия я вам не доставлю. Дженни не из тех, кто страдает по милости подобного субъекта. В дневных и ночных разговорах они с Тусси подробно все это обсудили: есть вещи, да и люди, которых надо хладнокровно списывать в убыток. Семьдесят три, сказала Тусси. Слушай, она нас доконает.
А Белла приедет? Может, для верности еще раз позвонить ей? Сорок девять, пятьдесят… Луиза тоже считала «ку-ку». Вот если бы их слышала Эллен. Могла бы им поверить. В чем поверить-то? Что они напрямую связаны с отсчетом лет жизни? Луиза, как всегда по утрам, сидела в своей комнате перед зеркалом, оно висело в простенке между окнами и по обыкновению казалось ей третьим, обращенным внутрь окном, от которого так и тянет соблазном, но поддаваться этому соблазну нельзя. Выходит, у нее был повод долго сидеть по утрам перед этим зеркалом. Может, она вообще зря перевезла его сюда из своей девичьей комнаты. Ведь в доме родителей на всем лежало проклятие — родители! Кошмарное слово! — или по меньшей мере отчужденность, не исчезавшая и в ином окружении и делавшая любимое ее зеркало посторонним чужаком в этой комнате. Властительным пришельцем, в чей распахнутый зев без оглядки устремлялись все предметы, предательски бросая ее, Луизу, на произвол судьбы: ее бидермейеровская кровать под бронзового цвета покрывалом, узкие книжные полки, круглый стол, зеленая склянка с розами на длинных стеблях, четыре стула из тускло-золотистого дерева, с гнутыми спинками, еще одно зеркало, побольше, на противоположной стене и даже солидный угловой шкаф с «охотничьим» фарфором. И это сейчас, когда ей нужна поддержка, когда ее противодействие могуществу вещей подтачивается и извне, потому что лес, который начинается в сотне метров за домом, с недавних пор подступает все ближе. Она это чувствовала, хоть и не могла увидеть сквозь стены. Или все-таки? Вроде вот только что в зеркале мелькнула зеленая громада? Плохо дело. Похоже, она проглядела тот миг, когда лес, весной далекий и недвижимый, отправился в путь, так что его мрак все больше завладевал ею и она сочла за благо не ходить туда в одиночку. С Беллой — да. С Беллой и Йонасом — куда ни шло. Приедут ли они? На всякий случай надо напечь пирогов. Сейчас, только по-быстрому приведет себя в порядок. В комнату заглянул Антонис. Где ж она застряла? Но ответить-то ему она не могла. Он это знал, однако вновь и вновь пытался заставить ее говорить. Жена со мной не разговаривает, сказал он по телефону Эллен, она слышала. А ведь она ему написала, что женщина из Виммерсдорфа велела ей три дня молчать. Не написала только, до какой степени этот совет оказался созвучен ее собственному потаенному желанию. На сей раз она перетерпит, пускай Антонис думает, что она молчит ему назло. Кукушка все кричит. Считать Луиза перестала.
Привычным жестом заколоть волосы. Глаза. Кисточки, щеточки для ресниц, квадратики цветных теней на старом рабочем столике перед зеркалом. Веки сегодня подмажем темно-зеленым. Черным карандашом придадим бровям более решительный, энергичный изгиб. Тушь на ресницы, подсушим и подкрасим еще разок, для верности. Теперь в зеркале совсем другая женщина. В таком виде еще кое-как можно выйти на люди. Можно даже выставить себя на обозрение всем этим мужчинам в городах. Она, конечно, сама привлекала мужские взгляды накрашенным лицом, тут Эллен, пожалуй, права, но ведь их сластолюбивые взгляды раздевали и пятнали не ее, не Луизу. Нет, другую, безымянную женщину; а она, Луиза, невидимая и неузнанная, незаметно шагала под надежной защитой, в маске и костюме этой расфуфыренной другой. Да, порой бывало до боли грустно, что защищать приходится не себя, а чужое подобие себя, но она не позволяла себе грустить вот так, до боли. По-настоящему следить надо за тем, чтобы маска и оболочка не приросли где-нибудь к ее теплому, жаждущему, беззащитному телу. И чтобы она никогда, даже в минуту слабости, не выдала свою тайну ни одной живой душе.
Читать дальше