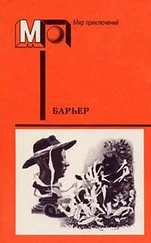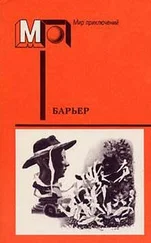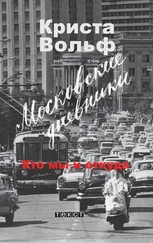У Эллен вырвался возглас, который всегда огорчал Яна, когда он его слышал, и который она тщетно старалась превратить в подобие смешка. Она знала, идти на поводу у чувства нереальности небезопасно, но оно было необходимо ей как воздух. Оно пронизывало все ее существо, до мозга костей. Выспрашивать о нем было бессмысленно, но Ян невольно выспрашивал снова и снова, а она невольно снова и снова увиливала. Таковы были правила, установленные много лет назад, кем — неизвестно. Эллен процитировала Яну фразу из книги, которую только что случайно открыла: «Несомненно, рано или поздно муж и жена становятся как родственники, но приходит это само собою, когда страсть остывает». Ян промолчал. Однако среди дня он схватит Эллен за волосы, запрокинет ей голову. Ну что? Остыла страсть?
Сейчас он сказал, что надо спуститься к пруду — этим летом, по предложению Ирены, его нарекут «озерцом», — глянуть, там ли опять лебеди и нырки. У лебедей было пять птенцов, которых они старательно прятали от людских глаз. Горделивым кильватерным строем: один родитель впереди, второй сзади, а между ними, четко выдерживая дистанцию, пятерка птенцов — семейство поспешно скрылось за поросшим буйной зеленью островком посреди пруда, где выводили птенцов не только лебеди, но и великое множество иных водоплавающих птиц. Ян купит себе бинокль, ему хочется выяснить, какие там птицы. Он долго наблюдал за чомгой, завороженный ее способностью выныривать непременно позже, чем надо, и совсем не там, где ждешь. Восемьдесят процентов ландшафта — это небо, сказала Эллен. Пожалуй, ей это нравится. Ян, правда, с детства отдавал предпочтение горам, но теперь он как будто бы и без них обходится.
Вечером, в огромной тишине, которая прежде, наверно, была одною из земных стихий, а теперь укрылась на селе, Эллен лежала в темно-коричневой деревянной кровати и чувствовала, как напряженная, возникающая от нервного истощения городская усталость, не благоприятствующая сну, переходит в тяжелую, здоровую сельскую усталость. Перед тем как заснуть, она еще подумала, как давно уже не ощущала внутри укола, каким ее тело давало понять, что она потрясена до глубины души. Остыла ли страсть? Она не знала.
Под утро ей, как назло, приснился кошмар. Опять какой-то конгресс, опять в этаком просторном фантасмагорическом здании-лабиринте с несчетными залами и коридорами. Пестрая людская толпа, в том числе иностранцы, Эллен видела белые чужеземные одежды, тюрбаны. В главном зале — именно там всегда и проходили заседания, как она с испугом припомнила, — в главном зале ораторы, деловая суета, овации. Ей осталось неясно, почему она уходила отсюда, все более пустынными залами, кабинетами, анфиладами комнат и коридорами в дальнее крыло, в необжитые, безлюдные помещения. Уход к самой себе, смутно догадывалась она. А в итоге, что называется, с открытыми глазами угодила — напоследок даже съехала вроде как по детской горке, — в итоге угодила в безвыходное положение. Прижатая к стене, она стояла в тесной цементной каморке, вплотную перед ней вращалось что-то наподобие лопастного колеса, которое, по-видимому, соединяло эту каморку с верхним миром, но сесть на лопасть, чтобы выбраться наружу, она не могла — ее бы раздавило. Отрывая клочки от листа зеленой бумаги и засовывая их в лопасти, она отправила наверх весточку о своем положении. Зеленый — цвет надежды, думала она во сне. Наконец, спустя много-много времени, колесо остановили. Голос Яна, деланно спокойный, что вызвало у нее улыбку, велел ей сделаться как можно тоньше, прямо как листок бумаги, ведь иначе не протиснуться сквозь узенькую щелку наверх. Стать почти незримой — такова цена выживания. У нее не было выбора.
Утром Ян удивлялся, до чего крепко она спала. Около пяти, сказал он, над домом на малой высоте — метров пятьдесят, не больше, — прошли желтые самолеты сельскохозяйственной авиации, да не один раз, удобрения распыляли на бескрайних окрестных полях МРО [4] Межхозяйственное растениеводческое отделение.
. Надеюсь, нам не досталось, сказала она. И пчелам на люпиновом поле тоже, не как прошлый год. Шум Элленина колеса получил объяснение. Ян, не знавший ни ее вечерних мыслей, ни утреннего сна, загрустил, когда она, неожиданно для себя, сказала: По-моему, мы должны жить иначе. Совершенно иначе.
А теперь нам придется потолковать о жаре. Она только-только началась, мы еще не знали, что это Жара с большой буквы. Хорошее будет лето, говорили люди. Теплое. Жаркое. Газеты начали тихонько его поругивать. Оно не считалось с производственными планами сельского хозяйства. Шли недели, а дождя ни капли, и это здесь, в двух шагах от моря. Природа словно ополчилась против себя самой. Каждое утро Эллен, распахнув заднюю дверь, выходила на лужайку, а там ее встречало оно — нескончаемо-одинаковое лето. Там за сквозистым вишенником стояло солнце и пело. Пело, будто сотня скворцов, темной гомонящей тучкой взвивавшихся в небо, когда Эллен хлопала в ладоши. Вот нижний край солнца коснулся вишневого дерева, сегодня это последняя возможность увидеть его — диск, шар, светило. Эллен было в новинку целый день мысленно повторять словцо вроде «блаженно». Практиковаться в том, чтоб сперва открывать глаза, а затем — другие чувства. На фоне плотной завесы тишины различать утренние шумы деревни, все по отдельности. Вдыхать едва слышный сухой запах дыма, отдающую легкой горчинкой свежесть. Чувствовать кожей тепло. Ждать изнутри мягкого противотока, до поры до времени заглушенного и принуждению не подчинявшегося.
Читать дальше