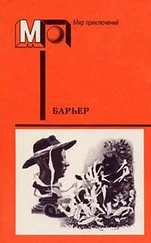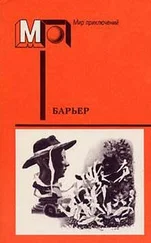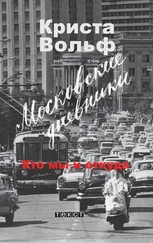На миг все смолкли, Луиза выбежала из комнаты, Антонис поднял бокал и впервые сказал: Добро пожаловать на хутор Винсдорф. Он будет повторять это сотни раз. Снова и снова, долгие годы. Будет меняться освещение, мы будем становиться старше, мельница повторений запущена. Эллен вдруг вспомнила имя поэта и даже первую строчку: «Час придет, не век нам ждать». А затем в памяти всплыло название: «Утешительная ария».
Много чего происходило, прекрасные пустяки, которые так легко забываются. К примеру, следующей весной — в деревне на все нужно время — Ян и Дженни пожили несколько дней у Рамеров, незадолго до их отъезда. Спали на кроватях супругов Рамер и ночами слышали за дощатой перегородкой «полный набор» Ольгиных шумов — так выразилась Дженни. И каждое утро, ниспосланное Господом, замерев без движения, молча наблюдали за Ольгой, когда она, громко ворча и бранясь, с ночным горшком в вытянутой руке пересекала их комнату. Уже на завтрак им, по здешнему обычаю, подавали жирную свинину, а на обед — мекленбургское картофельно-яблочное пюре с топленым салом. И с соседом они познакомились, с Фрицем Шепендонком, который счел их тайной парочкой и доверительно, как мужчина мужчине, сообщил Яну, что и сам иной раз не прочь с этакой восемнадцатилетней блондиночкой; как Ян-то думает, он может надеяться? Вы бы видели папину физиономию! — говорила Дженни. Такая жалость, что он не умеет врать. А в конце концов, вернувшись домой, они быстренько побросали в ванну всю свою одежду, чтобы утопить десяток обосновавшихся там блох.
Легенды эпохи первопроходцев, которыми они позднее снова и снова потчевали друг друга возле гриль-жаровни, — как у древних германцев, говорила Дженни. Летом, когда они подъезжали к деревне с «той» стороны, Ян сказал, что в природе не бывает «тех» и «не тех» сторон. И точных повторений не бывает, а значит, и скуки. Никогда им не надоест ни вид с дюны на деревню, ни мягкий изгиб чуть приподнятой линии горизонта, что была видна с крыльца, ни ширь слегка волнистого ландшафта, которая открывалась глазу с высокого восточного берега пруда. Или вот небо, говорила Эллен, она поймала себя на подозрении, что когда-нибудь все же возникнет что-то вроде скуки, что-то вроде пресыщенности, безразличия, и втайне считала загородную жизнь лекарством и от этого тоже, ведь любая новинка — всегда лекарство от пресыщения старым. И еще одно удивляло ее: первое время, к вечеру, на нее почему-то накатывала беспричинная меланхолия, только много позже она сообразила, что полная тишина, царившая здесь, отключала защитные силы ее нервной системы, которые она невольно держала в постоянном напряжении.
То же самое было с домом. Так и кажется, что некий закон требует много раз — но сколько именно, никто, разумеется, не знает — обязательно видеть дом, видеть, как он вырастает перед тобой, чем ближе ты к нему подходишь, — только тогда ты на всю жизнь запомнишь его, сохранишь в памяти. Первой появляется серовато-бурая, отблескивающая серебром камышовая кровля, она похожа на тщательно пригнанную, аккуратно подстриженную ежовую шкурку, которая гладко, иголка к иголке, укладывается под осенними дождями и встает дыбом в летнюю жару. Затем в палисаднике меж старых, щедро обсыпанных плодами яблонь проглядывает рядок белых окон в краснокирпичной оправе, — четыре слева и одно справа от синевато-зеленой двери (позднее Ян перекрасит ее в исчерна-зеленый). И наконец, прямо под крышей, темные балки, которые приходилось ежегодно пропитывать отработанным маслом. И мы, съехавшиеся из дальнего далека, из разных мест, с весьма разными представлениями насчет того, каким положено быть дому, — отчего мы все, глядя на мекленбургский крестьянский дом, испытывали одинаковое чувство, давно забытое чувство возвращения домой?
Легкий треск — дверь, отворяясь, рвет паутину. Затхлый, спертый воздух старого фахверкового дома, бьющий в лицо из по-зимнему холодных сеней. Распахнуть окна, которые открываются наружу и закрепляются крючками. Проветрить матрацы и подушки, расставить книги на старом колченогом секретере в «маленькой комнате». Вытереть в доме пыль, все еще наперекор внутреннему противодействию. Разве не глупость, не смех — так вот растрачивать время. Вместо того чтоб белить печку, лучше бы записала фразы, блуждавшие в голове. А с другой стороны — почему эти фразы должны быть важнее чистой печки? К тому же, думала Эллен, последние один-два десятка лет львиную долю времени она расходовала неправильно, разве нет? Стоило ей выйти на крыльцо, противодействие тотчас исчезало. Солнце стояло отвесно над крышей. Она ждала, не возникнет ли опять чувство нереальности. Достаточно было глянуть на огненно-красный куст айвы через дорогу, на эту отчаянную невозможность у края прозаического хлебного поля. Или погрузиться взглядом в сплошь усыпанную цветами крону яблони — эти яблони посажены пять-десять лет назад тогдашним хозяином, чтобы его дети и внуки собирали с них урожай, а теперь мы повезем эти яблоки осенью в давильню. Стрелы нереальности в самых реальных происшествиях, они задевали ее, оставляя незримые ранки, а из этих ранок вытекало вещество, судя по всему необходимое, чтобы серьезно, очень-очень серьезно отнестись к своему присутствию в некоей точке нашей земли. О да, они уже знали, что отличало их от крестьянских семей, которые так долго жили здесь и фотографии которых Ян развесил в комнате над фотографиями своей собственной семьи. Он будто хотел включить себя в длинную череду этих поколений — только потому, что живет теперь в их доме.
Читать дальше