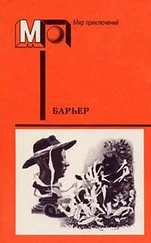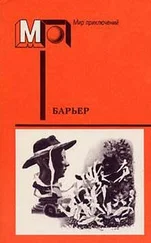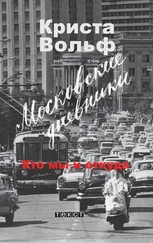Штеффи писала: Вчера я целый день видела твои глаза. Я стыжусь высоких слов. Думаю, сейчас мы впервые встречаемся по-настоящему, потому что нас волнуют схожие переживания. Страшные, гибельные переживания. Кошмарная зима, пишешь ты. В утешение я, пожалуй, могла бы сказать, что есть вещи и похуже общественного рака.
Эллен писала: ну не чудо ли, что человек снова и снова набирается сил, как бы воскресает. На сей раз у меня не было на это надежды. А вот ты, воскресая, стала красивой, поверь.
Она подумала, но не написала: Красивой и хрупкой.
Одно слово тянет за собой другое. Как тесно должны сомкнуться слова, чтобы возникли словесные цепочки, обвивающие нас по многу-многу раз, нерушимые путы, словесная вязь, которая, вместо того чтобы просто обозначать реальные обстоятельства, потихоньку втискивается на их место. Обязаны ли мы, имеем ли вообще право участвовать в этом и дальше? Такие вопросы странным образом под стать здешнему ландшафту. Он придает им объемность и четкость, а сам не ставит вопросов и не отвечает. Стыд, обуревавший нас порою, когда мы ударялись в мелочность, не имел к нему касательства, равно как и наши сомнения (позже, кстати говоря, исчезнувшие) в том, сумеем ли мы уберечься от последствий, к которым ведет сельская жизнь как проявление моды.
В кои-то веки нам выпало стоять у истока легенд. Уже на второй год мы собирались и рассказывали друг другу легенды года первого. Как Эрна Шепендонк поведала нам о своей жизни. Как Ирена с Клеменсом заполучили дом. Как навозная куча за хлевом была превращена в лужайку. Первое лето одаривало второе глубоким смыслом, так будет и впредь.
Эрна Шепендонк была разная — до того, как рассказала нам свою жизнь, и после. Она испытывала безотлагательную потребность сообщить Эллен, новой соседке, что и у нее, у Эрны Шепендонк, есть своя судьба. Пришла она в субботу, на Троицу, когда Ян и Эллен раскрывали в палисаднике грядки с примулой. Назвала свое имя. Не может ли Эллен пойти с нею? Сейчас? Лучше прямо сейчас. Не откладывай на завтра, коли можешь сделать сегодня. В Эрниной комнате Эллен усадили в кресло к окну. И она видела, как рядом, в спальне, Эрна сняла со шкафа потрепанный ридикюль. Про нее, между прочим, тоже в газетах писали. В руках у Эллен оказались три аккуратно сложенные, пожелтевшие газетные вырезки. «Волнующая встреча — после стольких лет». Окружная пресса информировала о том, как Эрна впервые в жизни свиделась со своей полькой-сестрой. Встреча произошла здесь, в этом доме, в этой самой комнате, где они сейчас сидят. «После стольких лет» — не очень подходящий заголовок, коли они вообще никогда друг дружку не видали, верно? В том-то и беда, что она не знала собственной сестры и что ее не устраивало всю жизнь мыкаться по свету без родни. А ведь мама ее, полька, которой в тридцатые годы пришлось батрачить в немецких усадьбах, твердила ей как пароль: В Польше у тебя есть сестра! Это единственное, что она, Эрна, запомнила из своего раннего детства. Потому что маму забрали и посадили в концлагерь — почему, никто ей так и не объяснил. А отец, немец-полицейский, погиб в польскую кампанию. Сама она воспитывалась частью в детских приютах, частью в немецких семьях и до сих пор не знает, что было хуже. Только три года назад Красный Крест переслал ей сестрин адрес. И как назло, она не смогла даже съездить за сестрой на вокзал в окружной центр — сестра приехала тем же летом, — в деревне аккурат был ветеринарный карантин. Хорошо хоть, из района один ее встретил, на машине, с большим букетом цветов, а она, Эрна, ждала у околицы, час за часом, и вместе с ней толпа людей. Да, все вдруг оказались ее близкими знакомцами и здорово удивлялись: надо же, у нее, у Эрны, тоже есть родня, они-то, местные, думали, что она круглая сирота. Жаль, конечно, что им с сестрой так и не удалось поговорить с глазу на глаз, сестра-то говорит только по-польски, а она — только по-немецки. Зять худо-бедно переводил.
Голос у Эрны Шепендонк был слишком зычен для комнаты, а сама она — слишком дородна для кресла. Она кивнула на полочку: видите, книги. Да, она тоже иногда не прочь почитать. Потом вытащила из буфета парадную чашку и вазу дымчатого стекла — это ее за хорошую работу премировали. Раньше-то как было, сказала она, коровы да хрюшки — вот и вся моя компания, а нынче я с докторами да с профессорами работаю. Эрна каждый день ездила автобусом в окружной центр, служила уборщицей в больнице. Меня там в обиду не дают, сказала она. И предложила Эллен свежих яиц. Чем плохо, когда знаешь друг дружку, раз уж бок о бок живешь. В случае чего я и помочь могу.
Читать дальше