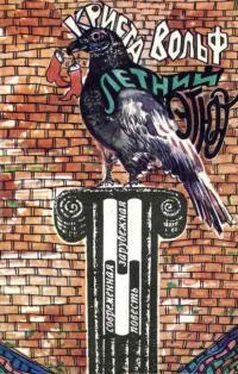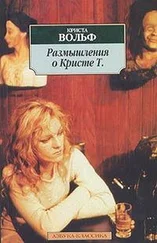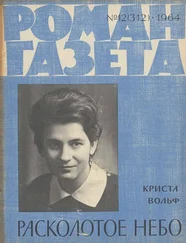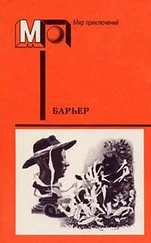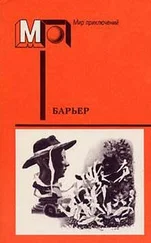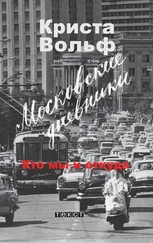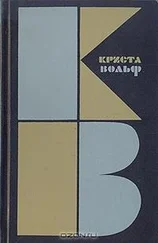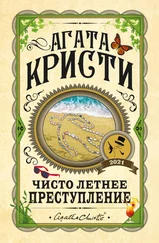С конца шестидесятых годов Криста Вольф активно переосмысляет жизненный и творческий опыт, мучительно стремится найти новые возможности литературного выражения своих изменившихся мировоззренческих позиций. Она работает и экспериментирует сразу по нескольким направлениям. Важнейшее — резкая субъективизация прозы, нарочитое присутствие в тексте самого автора с его переживаниями и проблемами. Эта эстетическая категория, получившая название «субъективная аутентичность», впервые была сформулирована ею в эссе «Уроки чтения и письма» (1968, опубл. В 1972):
«…у повествовательного пространства есть четыре измерения: три фиктивные пространственные координаты вымышленных персонажей и четвертая, «подлинная», координата рассказчика. Это координата глубины, чувства времени, неизбежной сопричастности, определяющая выбор не только сюжета, но и его окраски. Ее осознанное использование — основной метод современной прозы».
Метод «субъективной аутентичности» наиболее очевидно просматривается в романе «Образы детства» (1976), повести «Авария» (1987) и в относящейся к 1978—1979 годам, но завершенной в ноябре 1989 года пронзительно интимной повести «Что остается». Эта повесть является своеобразным дополнением к «Летнему этюду», ибо сосредоточена на раскрытии внутриполитической ситуации в ГДР, приведшей партийно-бюрократический режим в стране к полному краху, — то есть как раз на том, чего в «Летнем этюде» Криста Вольф старательно избегает или же касается весьма осторожно, и читатель, не знакомый с конкретной ситуацией в ГДР, может подумать, что речь идет в основном о личных переживаниях и трагедиях. Поэтому есть смысл очертить культурно-политический и литературный контекст, относящийся к периоду, описанному в «Летнем этюде».
В тексте повести нет ни одной даты, хотя порой упоминаются события, временная и пространственная соотнесенность которых не вызывает сомнений. Вспомним хотя бы семейство грека Антониса, любителя предметов старины, тоскующего по родине, с нетерпением ожидающего визу и наконец — после покупки старинного сундука и торжественного прощального вечера — отъезжающего в Грецию. Реакционный режим в Греции, как мы помним, пал в 1974 году. Эту дату ориентировочно можно взять за точку отсчета. Попутно зададим себе вопрос: зачем вообще Кристе Вольф понадобилась экзотика и не напоминает ли интеллигентное общество, затворившееся в добровольном изгнании в мекленбургской деревне со славянским названием, группу беженцев, в благостном деревенском комфорте ожидающих общественных перемен, чтобы — подобно греку Антонису — вернуться на покинутые места? Ведь художественное произведение живет по своим собственным законам, и всякое, даже мимоходом упомянутое, «ружье» должно рано или поздно «выстрелить»…
Биографам Кристы Вольф хорошо известна фотография «Лето 1975 года в Метельне», впервые опубликованная Терезой Хёрник к шестидесятилетию писательницы: на скамье под окнами просторного деревенского дома уютно беседуют Криста Вольф, Сара Кирш, Хельга Шуберт… Стихотворение Сары Кирш не только стоит в эпиграфе повести, но и цитируемые в книге стихи Беллы принадлежат Саре Кирш. А сейчас самое время вспомнить неожиданно щемящую фразу первого абзаца повести «Летний этюд»: «Теперь, когда Луиза уехала, Белла навсегда оставила нас, Штеффи умерла, дома разрушены, — теперь жизнью вновь властвует память». Сара Кирш, одна из крупных современных немецких поэтесс, как известно, была в числе тех, кто выступил против лишения гражданства ГДР поэта-песенника Вольфа Бирмана. Акция лишения гражданства произошла 17 ноября 1976 года. В 1977 году Сара Кирш переехала жить в Западный Берлин. В знак протеста против антиконституционного акта «лишения гражданства» ГДР покинули свыше 100 деятелей культуры. Партийно-авторитарная власть ответила на эту акцию репрессиями. В 1979 году, например, из Союза писателей ГДР были исключены девять писателей. Криста Вольф мужественно выступила против этой акции и в дальнейшем в речах и статьях продолжала требовать восстановления исключенных, хотя некоторые из них уже оставили ГДР. На таком вот тревожном культурно-политическом фоне разыгрывается кажущаяся идиллия «Летнего этюда».
Заметное место в повести занимает образ Штеффи — мысленному диалогу с ней (умирающей в больнице от рака) отведены завершающие страницы книги. Исследователи, успевшие провести текстологический анализ, утверждают, что в образе Штеффи запечатлены некоторые черты Макси Вандер (1933—1977), талантливой писательницы, чья книга «Доброе утро, красотка» (1976), представляющая собой почти дословное воспроизведение магнитофонных записей бесед с женщинами ГДР, произвела сенсацию не только в немецкоязычном регионе. При чтении страниц книги, посвященных Штеффи, вспоминается Бригитта Райман (1933—1973), талантливая писательница, яркой звездой промелькнувшая на небосклоне литературы ГДР. В размышлениях и взаимоотношениях Эллен и Яна без труда угадываются автор повести и ее муж, известный писатель и критик Герхард Вольф. И так далее. Однако все расшифровки и соотнесения — загадки скорее для литературоведов, чем для читателей. Стоит подчеркнуть, что, развивая концепцию «субъективной аутентичности», Криста Вольф щедро заполняет страницы повести эпизодами, лицами и конфликтами, выхваченными из жизни.
Читать дальше