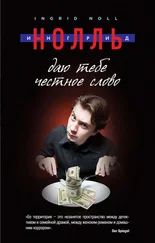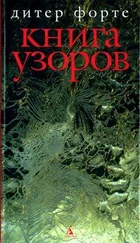Я вспомнил некоторые работы нашего института, исследования микроструктур нервных клеток, механизма действия нервных волокон, вспомнил, с каким трудом мы изучали структуру полипептидов, смоделировав ее для наших опытов с гипотетическими рецепторами. Когда мы обращались к аминокислотам и белковым макромолекулам, наша работа в принципе мало чем отличалась от идущей во всем мире суеты вокруг генетического кода. Все это очень впечатляло и побуждало посвятить науке всю жизнь, однако и здесь на горизонте все более угрожающе вырисовывались контуры той извращенной силы, которая сегодня обрушивает напалм на головы крестьян, а завтра без малейших колебаний начнет себе на потребу генетические манипуляции с людьми, как только мировое братство ученых, к которому принадлежу и я, вооружит ее необходимыми средствами. Мысль эта все более угнетала меня, право же, слово «наука» приобрело нынче какой-то зловещий оттенок.
Я отложил газету. С пессимизмом такого рода в общем-то можно справиться, ибо причины его открыты разуму. В молодые годы, еще не выйдя из плена отцовских представлений, еще не подпав под влияние Боскова, я при определенном стечении обстоятельств благословлял надклассовость своей науки; сегодня же, с неудовольствием отмечая слишком бурное научно-техническое развитие, я тотчас спохватываюсь, что результаты наших исследований полезны для здоровья трудящихся — я имею в виду трудящихся, занятых построением социализма, — и что своей деятельностью мы косвенно помогаем сохранять историческое равновесие во имя гуманистического развития науки.
Я попросил кельнера получить с меня и поехал домой, там я надел удобные вельветовые брюки, серый пушистый пуловер, который так мягко и приятно облегает тело, пошел на кухню, сварил себе кофе, потому что в клубе это не кофе, а так, водичка, и после всех перечисленных действий очутился в своем кабинете, за столом, уютно зажатым с обеих сторон книжными полками. Я хотел наконец на досуге перелистать накопившиеся научные журналы и набросать дескрипторы для нашей машины, подготовил блокнот и ручку, допил свой кофе. Не знаю отчего, но сегодня мне не работалось. Да и к чему, собственно? Кто столь дисциплинированно использует свое право на отдых и не знает, что такое восьмичасовой рабочий день, тот, право же, может позволить себе один вечер побездельничать. Я решил съездить в город, развлечься, может быть, сходить в кино.
Но в результате я лишь бессмысленно колесил по Берлину. Ибо отказ от работы обернулся для меня отказом от собственного «я», от всего, чем я был, чем себя считал. Машина медленно катилась по вечерним освещенным улицам. Жизнь моя вдруг показалась мне пустой и бессмысленной. Я не мог понять почему. Мое существование было упроченным и упорядоченным, жизнь без провалов, жизнь без изъянов, профессиональные успехи, карьера, почет и уважение, гармонический брак, ничем не омраченное счастье.
Но что оно собой представляет, это так называемое счастье?
Истинное счастье — в работе. Я вел жизнь ученого в соответствии со своими представлениями о ней: все имеет свою причину, никаких неясностей, в общих чертах предсказуемо до самой смерти. Жизнь, сложенная без грубых швов и стыков, из разума и понимания, нигде не оставлено места для иррационального, нигде — для лжи и обмана.
Переключившись на ближний свет, я бесцельно проехал по Унтер-ден-Линден и ярко освещенной Карл-Маркс-аллее. Я ехал по тихим переулкам, где еще льют свой тусклый свет старые газовые фонари, перед захудалыми кинотеатрами я видел молодых людей в джинсах и кожаных куртках, многие держали под мышкой транзисторы. Сегодня я видел их не как всегда, издали и безразлично, а отчетливо и близко, и в голове у меня звучал почти сочувственный вопрос: как можно проживать свою жизнь где-то на обочине? Я никогда не расточал время попусту. Даже в отпуске я восстанавливал духовные и физические силы по строго продуманному графику. Радениями моего отца я и в школе, и в университете, и вообще, сколько себя помню, держался в стороне от несущественного. Сегодня же я чувствую себя в своей машине, словно в танке, сквозь броню которого не проникает жизнь. Вот так же, если брать все это в большом масштабе, мое бытие ограждено от мира институтом, а мое сознание — абстрактностью занимающих меня проблем. Пестрый калейдоскоп событий доходит до меня лишь в профильтрованном виде, как строго отобранная информация. Но в этом есть своя правда, ибо достичь вершин в науке невозможно без умения сконцентрироваться на самом существенном, после чего головокружительное многообразие жизни предстает лишь отдаленным шорохом, лишь совокупностью помех.
Читать дальше