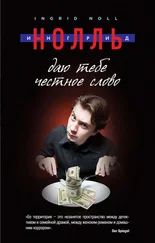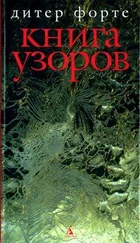— Ну хорошо, — ответил Босков, — посмотрим. — И вытолкал меня из комнаты. — А теперь пошли.
В воспоминании я вижу, как оба мы идем по коридору: я — высокий, невозмутимый, разве что походка несколько скованная. Босков пыхтит рядом, задыхаясь, словно больше нельзя терять ни минуты. На два моих шага приходится три босковских, и это придает нашему совместному движению какой-то неверный, спотыкающийся, характер.
Наутро я отвез Шарлотту в аэропорт.
Обычные слова прощания, когда один уезжает, а другой, в некоторой растерянности, остается. «Надеюсь, полет будет приятным. Если будет что важное, звони, но только ночью…» Объятия, пожелания счастливого пути. Шарлотта последний раз оглядывается, проходя коридором на регистрацию загранрейсов, я машу рукой.
Я обошел здание аэропорта и остановился у железного парапета, засунув руки в карманы — с огромного ровного поля задувал пронзительный ветер. Потом я увидел, как «Ил» выруливает на взлетную полосу, как поворачивает, разгоняется по бетонированной дорожке, отрывается от земли и набирает высоту. Я глядел ему вслед, видел хвосты ядовитых газов, тянущихся за его двигателями, пока наконец самолет не растаял в серой мгле февральского неба.
В машине я чувствовал себя как-то неуютно, словно выбитый из наезженной колеи, причем объяснение напрашивалось само собой. Мы уже семь лет женаты с Шарлоттой, почти семь, не хватает еще трех месяцев. Мне предстояли одинокие дни, меня ожидал пустой дом. На изменения привычной обстановки человек реагирует утратой внутренней стабильности, особенно когда речь идет о привычках многолетних.
Впрочем, такое объяснение никуда не годилось, я и не обольщался на этот счет, не отъезд Шарлотты нарушил мое равновесие. Мне уже не раз казалось, будто я выбит из колеи. Я хорошо знал это чувство. Я с тревогой отмечал его у себя. За последние годы — нередко, а с недавних пор — все чаще. Я хорошо себя знал: работа, и только работа, словно железный каркас, поддерживала мою жизнь, придавая ей одновременно содержание и смысл. Когда я не работал, мне трудно было понять, зачем я живу и зачем она, жизнь, вообще дается человеку. Сущность и осмысленность мира и собственного «я» весьма удаленные друг от друга понятия, как-то с трудом поддающиеся определению, однако Босков уже дискутировал на эту тему с Харрой, и мне, пожалуй, следовало тогда прислушаться. Тяга к философии у представителей естественных наук, как утверждает Босков, возрастает с каждым днем. Только не у меня. Я ничего не смыслю в философии. Ее понятия, на мой взгляд, страдают недостаточной четкостью формулировок. Если мне зададут вопрос о моих воззрениях, я скажу, что, как ученый-естественник с высоким уровнем математической подготовки, склоняюсь в философии к материализму, но уже следующий вопрос, является ли мой материализм диалектическим, меня нисколько не занимает, об этом пусть судят другие.
Однако с недавних пор я ощутил в себе тягу к раздумьям. Под раздумьями я понимаю нечеткость мыслей в отличие от четкого логического мышления, стирание границы между мыслью и настроением, стремление мыслить в неясных образах, куда примешаны аффекты, импульсы неопознанных чувств. Прежде такого со мной не бывало. Да и вообще у меня прежде многое было по-другому, прежде, несколько лет назад. Отчетливее, чем раньше, беспощаднее, чем раньше, осознал я именно сегодня, что в моей жизни не все обстоит должным образом. Может, это даже и хорошо, что я какое-то время поживу один, попробую разобраться в самом себе, увидеть самого себя, такого, каким я был когда-то.
В эту пятницу я уже не поехал в институт, а прямо отправился обедать в город, в клуб Бехера, встретил там знакомых, поболтал с ними примерно с полчасика. Потом знакомые ушли, я же сидел, пил кофе, читал газеты. Я одинаково свободно читаю по-английски и по-русски. Я нашел в «Правде» коммюнике о пребывании советской делегации в Северном Вьетнаме, прочел о новом соглашении об экономической взаимопомощи, подписанном в Ханое, и о протесте вьетнамцев против применения американцами химического оружия.
Тут я опустил газету: последняя тема задевала меня самым непосредственным и неприятным образом. Я знал о существовании ингибиторов ацетилхолинэстеразы, которые давно уже дожидаются своего часа как страшное оружие — зарин, табун, зоман и другие, более новые, поистине сатанинские измышления, — и всякий раз я невольно обращался мыслью к химикам, людям, подобным мне. Повсюду за сверхсовременной военной техникой, которую в далекой Восточной Азии обрушивали на этот маленький народ, я угадывал присутствие того, что нынче заменило людям религию, — присутствие науки.
Читать дальше