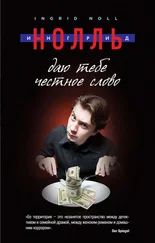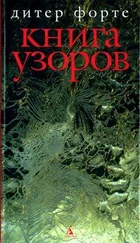Когда в понедельник в два часа ночи я добрался к себе домой, мне больше всего хотелось, не раздеваясь, броситься на кровать и заснуть, но я был так вымотан и в таком беспокойстве, что меня потянуло к телефону. От вахтера я узнал, что в воскресенье работали до ночи. Шнайдер, Босков, Хадриан, Харра и Мерк ушли домой незадолго до полуночи. В старом здании, сказал он, еще горит свет, там хадриановские химики, кроме того, работает машина, Леман и все остальные еще в институте.
Я попросил соединить меня с машинным залом. Операторша ответила, что Леман лег спать. Машина работает. «Считает что-то длинное». Больше она ничего не знала. Ей было поручено следить за пультом управления и разбудить Лемана, как только печатающее устройство начнет выдавать результаты. Кстати, Юнгман тоже еще в институте и время от времени заглядывает на машину. Я позвонил в старое здание. Там Юнгман вместе с электронщиком из измерительной лаборатории монтировали датчики в аппаратуру для эксперимента. Я попросил Юнгмана передать на машину и в отдел химии, что, если потребуется, меня можно разбудить, но я собираюсь — и пусть это скажут Боскову — приехать завтра в институт попозже, часам к десяти.
После того как я положил трубку, мне стало ясно, что не давала мне покоя тревога за институтские дела, за работу. И еще я снова ощутил, несмотря на измотанность, прилив обманчивой бодрости. Значит, заснуть не удастся, этого я почему-то боялся.
Не надо мне было оставаться ужинать у Папста.
Я принял душ, распахнул в спальне окно, улегся, потушил свет и вдыхал холодный ночной воздух. В последние дни на меня и впрямь многое навалилось, но еще больше ждало меня впереди. Иллюзий у меня не было: настал конец — это рано или поздно должно было произойти — моим анонимным странствиям по якобы чуждым сферам жизни, и в резервацию я больше не мог удаляться, она уже не была резервацией. Потому что замкнутость моего упорядоченного существования была кажущейся и обманчивой, а опустошенность, пресыщение и разочарование возникали из-за того, что я сам сузил свои горизонты. Не по моей воле, а по воле случая сквозь узкую щель мне открылось многообразие жизни, я еще не кончился, и тысячи импульсов, поступавших отовсюду, не превратились для меня в пустой звук и не воспринимаются только как досадная помеха.
Я жил как в тумане! Я должен был давно понять, что мне уже многие годы не хватало именно того Иоахима К., которым я был когда-то. Я погряз в индивидуализме, который — я не распознал его своевременно — проявился сначала в чрезмерном честолюбии, а потом в завладевшем мною чувстве опустошенности. Потому что индивидуалисту начало и конец его существования кажутся границами жизни и времени вообще. И год от года у него все больше остается позади и все меньше впереди. Истинная же индивидуальность, возможность стать которой открывалась когда-то передо мной, как и перед каждым в нашей стране, не отделима от времени, тогда казалось: у нас за спиной вся история и впереди вся жизнь. У Иоахима К., которым я был прежде, жизнь каждый день была чем-то новым, она дарила весь мир. А у меня, после того как я заболел потерей мира, оставалась только боязнь потерять все.
Проект соглашения, который я привез, Ланквиц, конечно, не примет. Таким образом передо мной неотвратимо вставала проблема конфронтации. На этот раз меня не спасет ни тактическая ловкость, ни умение проникать в чужую психологию (кстати, вовсе не моя сильная сторона, как мне еще недавно казалось). И моя улыбка, подкупающая, примирительная и неопределенная, на этот раз не избавит меня от выбора: или на колени, или пинок под зад, третьего не дано. Если смотреть правде в глаза, я похоронил то, что меня до сих пор поддерживало — надежду на Боскова. Ведь мой страх перед разоблачением был не менее сильным, чем отчаяние от того, что придется вступить в конфликт с Ланквицем.
Если бы я обдумывал все это не теперь, в таком взвинченном и усталом состоянии, а наутро, выспавшись и овладев собой, на ясную голову, то я бы, очевидно, нашел выход из этой дилеммы. Но сейчас, поддавшись фатализму, который был мне совершенно не свойствен, я сказал себе: пусть будет то, что будет, эта лавочка давно запрограммирована, предоставь события их собственному течению, потому что ты давно уже упустил момент, когда еще мог разобраться во всей этой путанице. Но на следующее утро от фатализма уже не осталось и следа, и, занятый лихорадочной деятельностью, я ни о чем не думал, пока не оказался в давно уже назревавшей кризисной ситуации.
Читать дальше