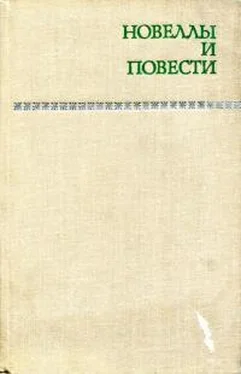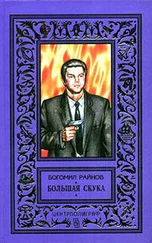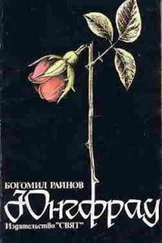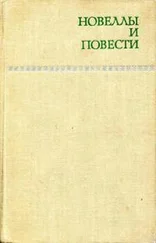(«Боже! — слышится мне, как восклицает он сейчас, спустя сорок лет. — До чего же нынешним мужчинам легче живется!..»)
Когда пропел первый петух, прогремел и первый выстрел за порогом. Родитель мой давил на спуск заржавленного самопала, возвещая миру о том, что стал он мужчиной, супругом — не без труда и несколько преждевременно, но стал. Эти примитивы гости таращились на сорочку моей матушки, наливались, будто поросята, сладкой ракией и горланили песни, а отцовы выстрелы превращали утро в решето, приводили в исступление окрестных собак и сотрясали дома, так что даже блохи, затаившиеся в тюфяках, перепугались не на шутку. Папаша мой продолжал громыхать. Как все в нашем роду, он тоже не прочь был прихвастнуть, извел целый ящик патронов.
Матушкины родители не случайно потребовали за нее три тысячи левов, несколько голов скота и десять декаров земли. Она стоила гораздо больше этого, хотя бы потому, что родила меня и дала Болгарии сына, без которого судьба Болгарии была бы ой какой несчастной. Но будем скромными, как нас тому учат ежедневно и ежечасно, предоставим последнее слово истории. А чего стоит другой матушкин подвиг? Она ведь вычистила авгиевы конюшни нового своего семейства и уничтожила столько тварей, сколько нынешним санитарным службам не вывести и за десяток лет, а ведь она-то, не надо забывать, действовала безо всяких препаратов. Бабка испытывала высшее наслаждение, когда устраивалась погожим деньком где-нибудь на припеке и звала мою матушку, чтобы та ей поискала. Бабкины волосы что вороново крыло, и всякая живность, ползающая в них, была различима невооруженным глазом даже с улицы.
А в остальном все обстояло хорошо, даже поэтично. Особенно хороши были утра, когда мать поднималась раньше других, еще до восхода солнца, растапливала печь, сажала в нее хлебы, готовила в поле харчи. Восток румянел, будто хлеб в печи (сравнение моей матери, которое я впоследствии часто и успешно использовал), на акациях щебетали воробьи, возвращались из ночных заведений летучие мыши, раскачивались из стороны в сторону, пьяные от свежего воздуха, и никак не могли найти себе места для спанья, а дома́ зевали в небо пахучим печным дымком. Надрывались петухи, очень гордые тем, что после того, как они прокукарекают, непременно всходит солнце; гоголем вышагивали они перед хохлатками, пробуя их примирить, потому что те, как истинные куры и жены, еще затемно успевали поссориться из-за какого-нибудь червяка или там зернышка. Между прочим, домашние эти птицы постоянно спорили, кто из них умнее: петухи или хохлатки. Конца этому спору, похоже, не будет, пока существуют петухи и хохлатки, но я лично думаю, что петухи умнее. И не потому, что сам принадлежу к мужской породе, не подумайте этого. Вот вам для наглядности такой пример. Как-то утром солнце в положенное время не взошло — случилось солнечное затмение. Петухи из себя выходили, сорвали себе глотки, до того осипли, что на следующее утро ни один из них не мог даже прохрипеть, а меж тем рассвело, как ни в чем не бывало. Вот после этого случая наши петухи сделали соответствующие выводы и никогда больше не воображали, будто без них и рассвету не бывать. Конечно, водились и дикие петухи, чьи внуки и поныне остаются дикарями и верят, что без их крика солнце не встанет. А что касается хохлаток, так они и в те времена были практичнее — дождутся, пока солнце поднимется над горизонтом, и только тогда присмотрят для себя укромный уголок, раскудахчутся до посинения и потом чванятся перед всем селом, что снесли яйцо. Смешнее всех были те, что кудахтали над пустым гнездом, а шумели побольше других. Потомки таких крикуш еще глупее, но и гораздо практичнее, не над гнездом кудахчут, а на собраниях, по радио и телевидению и во всяких других общественных местах. А заслуживают уважения, конечно, те из хохлаток, что несутся всякий день и без всякого шума — им не до этого, они выводят цыплят, и это отнимает у них все время. Это самые полезные и умные хохлатки. Остается помянуть еще поросят, которые разрывали навозные кучи, чтоб согреть прохладное утро, а потом тыкались пятачками в двери дома, требуя своего бульона с отрубями…
Весна стояла ласковая, животворная, влюбленная и беременная пшеницей и кукурузой, домашней и всякой прочей живностью, а главное — моей особой. Матушка моя похорошела за двоих, она ведь вмещала в себе две жизни, и отец был от нее без ума. Ему уж минуло шестнадцать лет и восемь месяцев, над верхней губой у него проклюнулись усики, а уши светились, будто бумажные фонарики. Он наконец начал понимать, что жена — это удовольствие, данное мужу из божьих рук, а потом уже мать, равноправная подруга, спутница жизни и прочее и прочее. Благословенная весна!..
Читать дальше