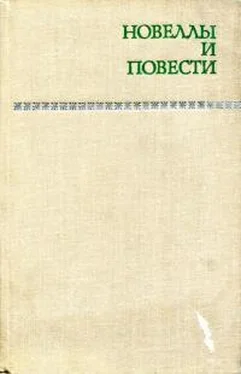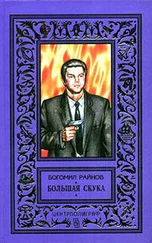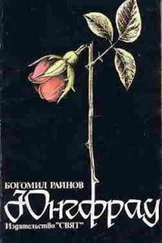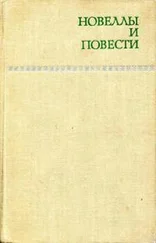— Аллах, я ничего не взял, ты мне свидетель…
Когда пришла телега, он хотел было воротить ее, но тотчас вспомнил, что она ему еще понадобится, и крикнул вознице, чтобы тот ехал в Горки. Сам он собирался догнать ее по дороге. Он не представлял, как они со старухой будут смотреть друг другу в глаза, но знал твердо, что должен взять ее вместе с ребенком в Устину. И что наступит день, когда он привезет ее сюда, в Перуштицу, чтобы она увидела свое богатство нетронутым и окончательно ему поверила. Сейчас ему не хотелось думать, почему он должен поступить именно так, его мутило, да и не хотелось вспоминать о своем последнем решении — там, в зарослях кустарника на месте вырубки.
Он велел Зекиру вырыть могилу для Хаджии в том самом цветнике с гиацинтами, где старик отдыхал сейчас под теплым ковром. Когда наступило время опускать тело, Зекир обмыл мертвому лицо и руки, почистил одежду, и Исмаил-ага в последний раз взглянул на своего кунака.
Лицо у него было землистое, совсем усохшее, щеки за эти дни ввалились, и нос — длинный, заостренный, широкий у переносицы — стал еще больше походить на крепкий клюв дятла, бесцветные губы были напряженно сжаты, словно старик все еще пытался встать и продолжить свой безумный путь. «Как-то я буду выглядеть?» — подумал Исмаил-ага и с грустью представил себе, как медленно, трудно, мучительно будет он умирать, каким обмякшим и расслабленным будет его тело после смерти. И Зекир тоже будет обмякшим, и Шабан-ага — его брат, хотя Зекир умрет легче, а Шабан-ага будет противиться смерти… А Тымрышлия? Исмаил-ага не мог представить себе его мертвым. Этот ласковый и угрожающий голос, эти синие глаза, сверлящие землю в то время, как уста говорят, эти веки, тяжело опущенные, точно надгробные плиты, все это тоже говорило о смерти, но не о смерти самого Мемеда-аги. Исмаил-ага прислушался, огляделся и снова увидел черных воронов и сумрак между ветвями орехов. Его тревожили предчувствия, он поручил слуге закончить погребение и остаться еще дня на два, а сам направился к жеребцу.
Прежде чем сесть в седло, он бросил прощальный взгляд на покойника. Сейчас вид напряженных губ и нос, похожий на клюв, его приободрили, они как бы говорили: «К чему столько размышлять? На свете нет ничего страшного, даже смерть не страшна». И они напомнили ему другое, похожее лицо, давно им виденное и забытое, или и вовсе не виденное, но непременно существовавшее, и он подумал, что, верно, во времена Алтын-спахилы и у них в роду умирали так.
1
Это была поляна, а на ней — невиданное чудо: рядышком цвели и чемерица, и вероника, и богородская трава, тут же зрела земляника, зрела — не могла дозреть, но главное, здесь была богородская трава, потому что, ежели молодица знает, что ей делать с этой травкой летом, весной под сердцем у нее шевельнется ребенок, а ведь нужно рожать, ой как нужно, господи, столько рожать, что и не управишься. Где же эта богородская трава, куда подевалась?
Тут за ней погналась свора псов, она бежала по широкому бескрайнему и пустому полю — нигде ни души, никто не придет на помощь. Все псы были черными, все, кроме одного — с белой головой, пес этот не лаял, а бежал следом за остальными и жалобно выл. Она швыряла в них камнями, но камни были легкие и падали, не долетев, а псы все приближались и приближались, и камни не причиняли им вреда, псы хотели разорвать ее на куски, нет, не разорвать — не псы то были, упыри, — а только кровь у нее из горла высосать и перескочить через ее труп, чтоб она тоже упырем оборотилась. Тогда она перекрестилась и снова швырнула камень, нет, не камень, а топор — она увидела это лишь в тот миг, когда топор падал, и упал он на белую голову того пса, что жалобно выл. Пес заскулил: «За что ты меня убила, бабка Хаджийка? Я не хотел тебе зла, я и других просил, чтобы тебя не трогали. За что ты меня убила?». И тогда она пошла к нему, а черные псы притихли, расступились и глядели на нее с укоризной. Потом псов осталось только два, один весь черный, а другой — с рассеченной белой головой, и черный сказал: «За что ты его убила? Это был самый паршивый пес, что я теперь буду без него делать?» — «Почему самый паршивый? — спросила она. — Ведь он не кусался!» — «А хорошие псы всегда кусаются, — сказал черный пес — Это был самый плохой пес, и теперь хозяин не будет знать, какой я хороший!» А Гюрга уже гладила белую, глубоко рассеченную голову пса. Кровь из нее не текла, и она принялась заполнять рану землей и потом поплевала, чтобы пригладить сверху. «Не замазывай рану землей, — попросил пес — Ведь земля черная, и голова моя никогда не станет прежней, у меня будет черная метина через лоб, промеж глаз». И Гюрга увидела, какой страшной становится эта метина, но продолжала замазывать и сказала: «Что же мне делать, если только ты у меня и остался?» — «Почему только я?» — спросил пес — «Турки убили всех моих сыновей: и Тодора, и Насе, и Павле…» — «Нет, одного турки не убили». — «Кого? Кто это?» — закричала она. — «Я не знаю, — ответил пес — Ты ведь мать, разве ты не чуешь, кто это может быть?»
Читать дальше