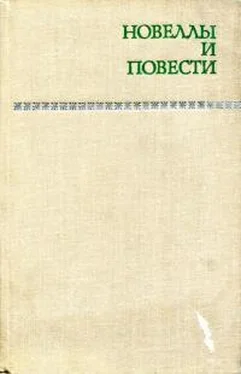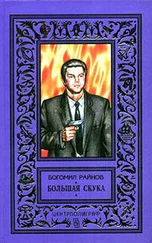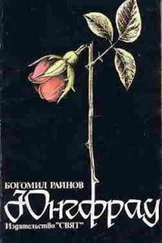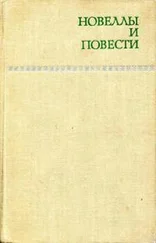Село горело, и женщинам сказали, что роздых дадут им в поле. Вереница медленно тащилась по дымным улочкам и чем ближе подходила к околице, тем реже становился дым, потому что огонь снял жатву с окраинных улиц еще в первые дни. И уже чувствовался запах цветущего миндаля, вырядившегося, точно гулящая девка, в розовое, веселого и бесстыдного среди черных пепелищ; со дворов тянуло запахом вскопанной земли и гиацинтов…
В молодости она сажала много гиацинтов, потом они сами разрослись, превратившись в целую грядку перед домом, да и другие женщины сажали во дворах гиацинты, но сколько ни озиралась сейчас бабка Гюрга, гиацинтов нигде не приметила. Да и как станут цвести гиацинты в такие времена? И тут она сообразила, словно вспомнила что-то забытое: ведь гиацинты давно исчезли, она их никогда уже больше не увидит, да и никто, пожалуй, не увидит, — как же встретиться людям с цветами, когда и тем и другим пришел конец… Шаг за шагом все гуще становился запах жареного сезама. Он тянул бабку Гюргу к околице.
Там, где кончались дома, возле дороги, из земли торчала крыша, рухнувшая в глубокий подвал. Остались стоять только каменные столбы с обуглившимися стропилами. Из подвала шел тонкий парок с дорогим для Хадживраневых запахом. Когда-то это была их яхна. Сколько мехов с сезамовым и ореховым маслом ушло отсюда, чтобы, пропутешествовав до самого Эдирне, возвратиться звонкой монетой…
Но прошлое испарялось, и запах его остался далеко позади. Старуха брела следом за другими, прикрыв глаза, то и дело спотыкаясь и чуть не падая под тяжестью ребенка. Сейчас по обочинам сыпучей песчаной дороги, ведущей к Хадживраневым вязам, густо цвели белая вероника и желтые лютики, склоны вокруг были покрыты виноградниками. Виноградники давали хороший урожай и хорошее вино, которое тоже находило спрос в дальних краях, и здесь, среди виноградников, у вязов, были зачаты их первые барыши, яхна и ее первенец…
…Когда подходило время окапывать лозы, они с Вране трудились дотемна, старались заработать лишний грош. Оставшись вдвоем и закончив ряд, присаживались закусить остатками от обеда… В тот раз у них был только хлеб да репчатый лук. Вране устал, кусок не лез ему в горло, а она его упрашивала, потому что это был весь их ужин. Но он все отказывался. Тогда она оставила его и пошла за лозы — весь день она терпела, стыдясь стариков и деверя. И только-то поднялась, как увидела над собой Вране, щеки его впали, глаза блестели. Она сказала ему, чтоб он не приставал, хотела запустить в него комом земли, потому что небо над ними еще не совсем потемнело и как бы смотрело на нее, а Вране тихо рычал: «Чабуджак, мари (по-быстрому)…» Но не получилось «по-быстрому», как он ей обещал, и весь он был из кости и мускулов, и когда они наконец поднялись, повсюду уже лежала спокойная теплая тьма. И тогда он сказал: «Есть хочу», — и они съели весь хлеб и лук, и она смотрела на него в темноте и знала, что такого мужчину и такую женщину господь бог не обойдет своим благословением… Это было когда-то… Много она тогда работала и другим не давала спуску. Сладок был ей вкус хлеба и лука, сладко было сознавать, что еще одним грошом будет у них больше, что Вране станет хаджией, что именитых, богатых турок будут они принимать в своем доме. Хорош был когда-то лук, если отбить его для сочности кулаком и круто посолить. Хорошо было последними возвращаться с поля. И ни о чем другом не думала она сейчас, бредя по этой стократно топтанной ее ногами песчаной дороге, кроме как о тех своих железных черных грошах, которые уже никто не в состоянии был снова сделать желанными, еще не заработанными; никто, ни за какие блага на свете.
4
И, спотыкаясь, она стала всматриваться туда, за ложбину, влево от дороги, стараясь разглядеть сквозь пелену, застилавшую ее старческие усталые глаза, Хадживраневы вязы на винограднике. И все думала о грошах и мучительно старалась отогнать от себя одно слово: «алтыны» [38] Алтын — золотая монета.
, «алтыны», которое мешалось, звенело в ушах, отнимало у грошей их сладость. «Алтыны!» — опять мелькнуло среди грошей, но на этот раз слово произнес кто-то другой. И тут бабку Гюргу пихнули, она чуть не упала, схватилась за чьи-то спины и в тот же миг услышала задыхающийся женский голос: «Нет у меня алтынов, говорят тебе, нет!»
И увидела, как какая-то молодуха и тщедушный молодой турок кружатся за придорожной канавой, ломая лозу за лозой. Турок вцепился женщине в ворот, но она, рослая, смуглая, вырывалась и вертела его вокруг себя. Он держался цепко, и так они вдвоем танцевали какую-то немую рученицу без музыки, и никто из них уже ничего не выкрикивал, и вереница тоже молчала, и слышно было, как трещит лоза у них под ногами, и тогда рослая молодуха наклонила голову и вцепилась зубами ему в руку, но он свободной рукой вытащил нож и всадил его ей в горло, повалился вместе с ней на землю, а когда поднялся, в руках его блестело монисто из крупных пендар. Молодуха вздрагивала и хрипела, взбрыкивала, лежа среди лоз, и прихлопывала руками по юбкам, словно отряхивала с них землю, а турок, высоко подняв монисто, улыбнулся веренице.
Читать дальше