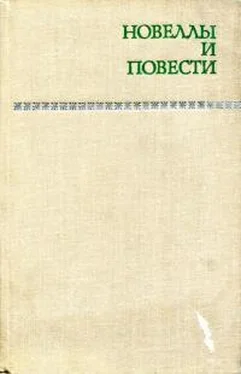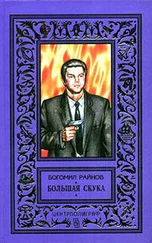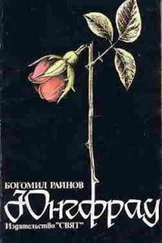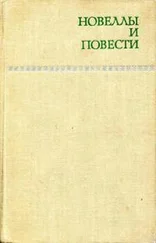Дим Бой служил в рыбнадзоре с 1933 года, с перерывом на те несколько лет после Девятого сентября, когда революция одним махом вымела всех, кто был на службе при прежнем режиме. В эти годы он работал возчиком, а потом опять понадобился инспектор рыбоохраны, он подал заявление и как-то вечерком занес председателю местного совета сома килограмма на два. Дим Бой искренне тогда считал, что этими двумя килограммами все и ограничится, но, когда он снова вооружился карабином, пришлось и самому ловить и выдавать разрешения на еще множество килограммов, множество разных сомов, усачей и кленей, без которых не обходилась в области ни одна конференция или совещание… Вкуснющая это штука — речная рыба, поджаренная на подсолнечном масле, с золотистой корочкой, хрустящим хвостом и до того аппетитным запахом, что уже им одним можно закусить стаканчик виноградного вина…
Галоши у Желы были полны воды и негромко похлюпывали. Намокший подол шлепал по ногам. Продев палец под ремень карабина, Дим Бой шел за нею, и на душе у него было тошно.
— Куска хлеба из-за вас лишусь, — помолчав, сказал он. — Почему я за вас страдать должен?
— Один ты страдаешь! — бросила Жела.
— Да ведь служба проклятая… Год остался и семь месяцев… Кабы не это…
Он шмыгнул носом, сплюнул и продолжал шагать, угадывая дорогу по шлепающему звуку ее юбки. Они подошли к земляным ступенькам.
— Да, треклятая моя служба… — повторил он и вслед за Желой поднялся на ее участок, стараясь в темноте не сбиться с тропки.
Жела привела его в летнюю кухоньку, зажгла свет, заставила его сесть и вынула из шкафа запылившуюся бутылочку ракии.
— Хлебни маленько, пока я рыбу почищу, — сказала она и налила ему рюмочку. — До смерти есть охота…
— Поехали! — сказал Дим Бой, чокаясь с бутылкой.
Рука у него была как у молодого, с плоскими ногтями. Из-под выгоревшей брезентовой куртки выглядывала заношенная зефировая рубаха. «Жена двоих внучат нянчит, вот он у нее и ходит заброшенный», — подумала Жела.
Она пошла переоделась в сухое и занялась рыбой. Сторож отпивал из стопки и смотрел, как уверенно орудуют ножом ее руки.
«Жела-верховодка», — вспомнилось ему, как они в детстве дразнили ее, а она гоняла с ними по лугам и любого мальчишку могла заткнуть за пояс… У мужа ее, который вечно пропадает где-то на рудниках, в голове ветер, и кабы не Жела, они б и по сю пору ютились в старом сарае деда Станчо, господь его прости… На счастье, Жела — баба деловая, собрались с силами, понаделали кирпичей, поставили дом и во дворе тоже всего понастроили. Что тут было раньше? Пустошь… А теперь двор. С разными строениями, дорожки залиты цементом, деревья фруктовые — каких во всей округе поискать. И все это благодаря вот этой женщине… Ауфвидерзен!.. Почет и уважение!.. Меня спроси, я скажу: вот такую бы и выдвигать в руководство, потому толковая и головы ни перед кем не клонит. Да разве ее выдвинут?
Огонь разгорелся, масло зашипело, по кухоньке разнесся вкусный запах. Дим Бою надо бы уйти, двойное будет преступление, если он отведает этой рыбки, но никакой силой нельзя было его сейчас поднять с места…
*
Жена косила люцерну. Он увидел ее высокую худую фигуру, она склонялась и взмахивала косой, стальное лезвие которой со змеиным шипением пробивалось сквозь густую стену люцерны. «Шщик-хруп! Шщик-хруп!» — долетали до него отрывистые звуки.
«Надо бы подсобить», — подумал Тодор и повесил сумку на забор. Но пока он дошел до заднего двора, Тана уже отставила косу и набивала травой плетеную корзину. Ему показалось, что она искоса взглянула в его сторону, но притворилась, что не видит, и, поднатужась, с трудом взвалила корзину на спину. Опять злится, подумал он, и напускает страдальческий вид, точно малое дитя, которому нравится, чтоб все его жалели.
— Дай-ка! — сказал он, протянув руку к корзине, но она обошла его и прибавила шагу, сгибаясь под тяжестью ноши.
Тодор пошел за нею. Если кто издали посмотрит на них, мелькнула у него мысль, то, наверно, подумает, что они дурачатся, как молодожены, что им весело и легко в этот летний вечер, полный светлячков и запаха свежескошенной травы. Вечер и впрямь был хороший. Тодор мельком взглянул на тлеющий оранжевый закат, но ему сейчас было не до закатов и мягкие, теплые сумерки не радовали его, потому что Тана опять на него злилась.
— На сверхурочную оставались, — сказал он, пока она насыпала буйволице люцерну. — Все оставались, не я один… Конец месяца…
Читать дальше