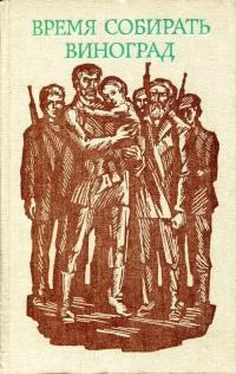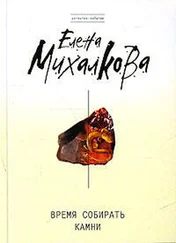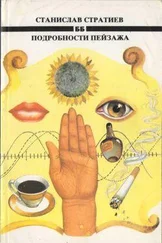А чаще всего он скрывался в своей комнатке под крышей и не выходил оттуда день-другой, а то и целую неделю. Смутно помню (я тогда был совсем маленький), как большая крытая телега, запряженная волами, привозила из города отцовские приборы. Помню, как я, нетвердо держась на еще слабых ножках — я только-только начал ходить, — толкался среди раскрытых пакетов, из которых торчали стеклянные колбы и реторты странной формы, виднелись системы пробирок с зажимами, как я жадно протягивал руки к черному блестящему микроскопу — он казался мне необыкновенно интересной игрушкой, куда интереснее груды поломанного хлама, лежавшего у меня в комнате, — как мама осторожно и нежно, а отец упорно и с глубоким волнением отстраняли меня, не позволяя прикоснуться к чудесным вещам.
Вначале отец очень часто затворялся в своей комнатке, превращенной в кабинет. Когда я научился читать и вошел в мир книг, когда странные слова стали привлекать меня своим удивительным звучанием больше, чем смыслом, я назвал эту комнатку лабораторией алхимика, потому что однажды, воспользовавшись отсутствием отца, переступил порог ее и остановился, изумленный, перед множеством цветных стеклянных сооружений, перед ящиками с землей, из которых какие-то необыкновенные растения тянули к солнцу свои зеленые стебельки, перед полкой с покрытыми пылью толстыми томами, и чары, которые проникли в меня, сами нашли всему этому название в неясном и далеком средневековье — оно каким-то образом соответствовало обстановке. Отец запирался в своей комнатке, проводил там дни и ночи и спускался к нам усталый и довольный, чтобы рассеять атмосферу тягостного ожидания надеждой на что-то непонятное, но наполнявшее нас почтительным трепетом и уважением.
— Я близок к успеху, — говорил он. — Мои предположения оправдаются!
Мы верили ему, не зная, о чем идет речь, потому что для веры не нужно усилий, и в то же время мы как бы делались соучастниками возможного успеха. Мы жили этим успехом, авансом гордясь им, но в глубине души чувствуя, насколько он нереален, мы не верили в него и, наверно, не приняли бы его, если бы он и в самом деле был достигнут.
Тревожно знакомая, массивная лысеющая голова поднялась из-за стола, моя рука интимно утонула в горячей сухой ладони, беспокояще сердечно забубнил голос:
— Садись. Ты, наверное, не узнал меня…
Два дня назад я был назначен юрисконсультом одного хозяйства в долине Тунджи. Рефрижераторы не прибыли, на станции гибли тысячи тонн персиков, наполнявших улицы села сладковатым запахом гнили, и я должен был писать какие-то рекламации. Мои университетские познания «дали течь» при первом же столкновении с практикой, и тут явился некий незнакомый коллега, «случайно» проходивший через село с двумя пустыми корзинами. Вдвоем мы сварганили какие-то протоколы, я вытерпел его заговорщические подмигивания и отнес заполненные страницы на подпись председателю.
Молча положил я их на гладкий стол, чтобы пресечь хлынувший, как из запруды, поток слов — этот человек хотел поймать меня в капкан прошлого, воздвигнуть вокруг непреодолимый барьер воспоминаний и на тесном, освещенном прожекторами памяти пространстве вновь встретиться со мной. Ничего хорошего я от этой встречи не ждал, мне хотелось побыстрее закончить разговор, побыстрее уйти из душной комнаты, где жужжали остервенелые мухи, но голос осторожно отрезал путь к отступлению:
— Наверное, ты не помнишь меня, хотя я работал в питомнике. Я все знал и все видел…
Люди становятся удивительно болтливыми, когда начинают говорить о моем отце, изо всех сил стараются взять тон доброжелательной откровенности, которая поднимает их в собственных глазах до первостепенных, но, увы, забытых уже вершителей минувших событий. И все непременно хотят покровительствовать, мне.
— Протоколы, — напомнил я сдержанно. — Вот… на подпись…
— Да-а… — ритмично, как маятник от стенных часов, закивала плешивая голова. — Плохо дело. Протоколами мы персики не спасем. Вагоны, вагоны где?
— Их должны прислать, — заговорил я медленно, чтобы перевести разговор на другую тему. — Тысячи тонн персиков пропадают…
— А сколько труда стоило вырастить их! — с подчеркнутой грустью заявил председатель и снова оседлал своего конька: — И то сказать, люди жизнь свою за них положили…
Шариковая ручка готова была начертать подпись на листе, но внезапно замерла — тоненькая, ломкая палочка в грубых пальцах, опустившихся на стол.
Читать дальше