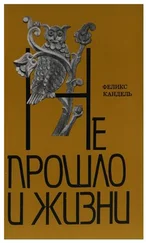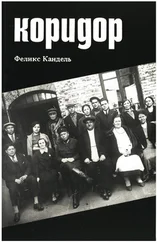И затихла. Или я задремал на миг? Слух потерял? Обоняние с осязанием?
– ...привел меня в подвал, под самым домом: пыль, паутина, стул колченогий, кушетка мусорная. «Тут?» – говорю. «Тут». – «Ванечка, – говорю. – Не о том я мечтала, Ванечка, честь свою отдавать в подвале. Она у меня одна, Ванечка. Или тебе без разницы?» – «Не, – отвечает, – и мне с разницей...» Не состоялось на тот раз.
Тени пристыли внизу. Рядком. Двух, должно быть, попутчиц, сдружившихся – не разлей вода – до первой пересадочной станции.
Долгая ночь – долгие признания. Как пробило засыпанный источник‚ пролилась весомая капля, теперь нажурчит само.
– ...зима. Мороз трескучий. Ночью, в третьем часу, влетели в форточку красные тюльпаны, огромные и замерзшие, легли без звука на пол. Побежала к окну, в одной рубахе: он уходил по улице, рукой махал, Ванечка мой светлый...
Было потом жилье, поделенное ситцевыми занавесками. Угол деда с бабкой, брата угол и наш. Да посередке сестра с мальцом, ни от кого прижитым. Дед пил горькую, валялся у помоек, носом в собачью мочу, в злом протрезвлении орал на бабку: «Кланька, Кланька, Кланька... Гнида, гнида, гнида...»
Бабка работала на мясокомбинате, волокла домой требуху ворованную, обмирала в проходной от страха, отлеживалась потом на кровати, а утром – снова на казнь. Требухой и кормились, да еще покрикивали: «Мать, принесла бы мясца!» А она в ответ: «За требуху-то, может, скостят…» Брат приводил бабу, пил, пел, хрустел кроватью за занавеской. Лют был: бабы от него верещали по страшному, спать не давали.
Ванечка мой светлый бил меня кулаком в лоб, быком на бойне, запихивал в шкаф, замыкал на ключ. Молила тихонько: «Выпусти, Ванечка, выпусти. Задыхаюсь, Ванечка...» Открывал шкаф, валилась замертво на кровать: тогда он меня брал. «Мне без разницы, – говорил. – Тебе с разницей, мне – без»...
И опять я отпал. В себя провалился. Выкарабкался – слушать дальше.
– …он не работал нигде, а я бегала на фабрику, цена мне – шестьдесят два рубля. Несу получку, стоит – ждет, руку тянет мой Ванечка. Копейки не было, хоть на побор иди: он всё пропивал. Бегала к подружке, мать ее жалела меня, кормила: придешь – сразу тарелку ставят. Раз привела Ванечку: он всем понравился. Светлый был, обходительный... Пришла в другой раз, а они тарелку не ставят. «Всё ты врала. Парень какой хороший!» И кормить перестали...
Вечером вернусь с работы: сидит с гитарой, струны перебирает. Шляпа на голове, воротник поднят, усы подрисованы; сажает меня на кровать, песни поет. Есть охота, спать охота, а он меня ждал, Ванечка мой светлый, он у меня артист. А задремлю – кулаком в лоб, и в шкаф... Вынул из петли, ноги целовал, прощения просил: «Чудо мое...»
Пять лет отжила с ним. Ушла – он вены перерезал. Звонил из больницы, шелестел без сил: «Приди…» – «Нет». – «Чуткая была такая...» – «А теперь без разницы». – «Тебе без разницы, мне – с разницей...» Бабка письмо прислала: «Мечтаю чайку попить. С тобой на кухне»...
Затихла. Проговорила жестко:
– Всё теперь хорошо. Стоит изба, в избе доска, под доской тоска. И цветов больше не кидают.
– Я кину, – пообещал мой друг с верхней полки. – Ромашек или сирени. Смотря по сезону.
Взглядом прожгла, глаза в пол-лица:
– Кинешь – будет тебе нечаянная радость. На вдовий двор... хоть щепку брось...
– А мне? – свесил голову. – Нечаянную?
Оглядела и меня.
– Про тебя не скажу. Ты для меня – с лица тёмен…
Непрожитым не насладиться…
…неизведанного не постичь, а потому мы отправились во Владимир ночным поездом, без особой на то потребности, просто вздумалось.
В соседнем купе играли в карты, шумели, разливали по стаканам, пускали матерок: дело шло к мордобою.
Наш сосед – неброского вида-облика – долго терпел, но после Орехово-Зуева вскричал, нервно и срывисто:
– Тихо вы, дебоширы!
Выглянул оттуда парнишечка.
С издавна обдуманными намерениями.
– Это кому мы мешаем? А ну, очкарик, пройдем в тамбур. Там и поговорим.
Очкарик сник, уменьшившись на пару пиджачных размеров:
– Чего это в тамбур? Я лучше тут посижу.
– Ну и сиди.
Парнишечка вернулся к своим, а мы разъяснили недогадливому:
– Не вмешивайся в стихийный процесс. Не нарушай его. Такое не проходит без членовредительства…
Веня – сочинитель владимирский, нежный лирик, загульная душа – привез нас в деревню, к дьякону. Сказал к вечеру, после ведерной канистры с пивом:
– Сталин-то... Слыхали? Надел форму генералиссимуса с орденами до пояса, лег на кушетку, руки сложил на груди и помер.
Читать дальше





![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)