— У Маркса есть восемьдесят процентов подтвержденных подозрений, что у меня альцгеймер. «Предеменция», как он красиво выразился.
Выложив все карты и высказав правду, как обычно, по старой привычке, отец поднимает голову. Чуть выше, чем нужно. Ждет реакции, прожигая серым и всепоглощающим взглядом и лицом, испещренным морщинками. Терпеливо ждет…
А Эдвард не знает, в состоянии ли эту реакцию дать.
— Альцгеймер?..
— Если есть другое название, и ты хочешь его услышать, я его не знаю, — пытается шутить. Карлайл. Шутить?..
— Подожди… но это же не точно, — Эдвард хмурится, пытаясь как-то сопоставить услышанное со здравым смыслом, — он ведь не сказал, что так оно и есть?
Как плохой спектакль. Как гребаная сказка с ненужными персонажами и неправильным финалом. Нет настоящего, нет правды. Это все для смеху или для слез. Так, чтобы запомнилось…
Это его месть — за ожидания, за надежды, не воплотившиеся. Сейчас Карлайл закатит глаза, сожмет губы и, толкнув сына в плечо, убедит в своем черном чувстве юмора. Сейчас-сейчас…
Однако Каллен-старший молчит. Рушатся последние надежды…
— Эдвард, — Карлайл качает головой на его метания, серьезно посмотрев на сына и вдребезги разбивая наспех сооруженные теории, — не порти моего нового впечатления о тебе. Отрицание — не лучший вариант.
Мужчина до крови прикусывает губу, но обидеться не в состоянии. Не может сейчас.
Вместо этого, удивляя себя, Карлайла и, наверное, большинство безмолвных деревьев вокруг, впервые за долгое время, не до конца отдавая себе отчет в происходящем, слившемся в пеструю и быстротечную струю, разбивающую на части сознание, обнимает отца. Крепко и отчаянно. Будто бы от силы этих объятий что-то зависит.
Сжав губы, сдерживается, осознавая, что такого поведения Каллен-старший не оценит. Но отпустить его не может. Не хочет. Не станет.
Ни сейчас, ни потом.
— Нет… — бормочет, скатившись до постыдного детского тона.
Как по щелчку, как по сигналу, одни мысли меркнут, а другие возрождаются из пепла, появляясь на арене. И точно так — с чувствами. Смешанными, непонятным, но сильными. Очень сильными. И все они, как одно, главное, вспарывают кожу. Ощутимо ранят. Снова. Сильнее, чем когда-либо прежде.
— Эдвард, — предупреждающе зовет отец. Напрягается.
— Нет! — яростно, хоть и шепотом, выплевывает тот. И смаргивает пекучие слезы, послав куда подальше запрет на них.
Жизнь быстротечна, жизнь — непредсказуема. Один день может перевернуть все с ног на голову и огорошить невероятным фактом. Болезненным. Упрямым. Немыслимым. Теперь все это окончательно доказано.
«За жизнь платят смертью» — но не в прямом же смысле! Но не так же!
Кажется, понимает и Карлайл. По крайней мере, тоже себя отпускает. Сдается. Неожиданно, но сдается. Тоже сдается. И тоже обнимает сына. И тоже крепко.
— Я горжусь тобой, — сдавленно произносит, наверняка так же, как и Эдвард, сдерживая глупые слезы, — не глядя на все это вокруг. Я тобой горжусь, Эдвард!
Ну, вот они, те слова. Те самые, в которых любовь и признание, родительская гордость и уважение, доверие. Те, в которых нет ни капли фальши или притворств, которые чисты, как снежинки под ногами.
Они звучат — здесь, для него, от Карлайла. От самого Карлайла. В реальности.
И он не сомневается в них, не издевается, не шутит. Говорит от сердца.
Только вот незадача: чтобы услышать подобное, понадобилось тридцать лет воинственного молчания и одна неизлечимая болезнь…
Эдвард глубоко вздыхает, прикрывая глаза. И шепчет, крепче обхватив мужчину:
— Спасибо, папа…
Получасом позже, как обещали, они оба вернутся в дом. И оба, сидя друг напротив друга, будут пить чай с пирогом Эсми, обсуждая какие-то мелочи. Узнанная на улице правда покажется сном. Чаепитие — реальностью. И дом — просто домом. Родным и теплым.
Эдвард будет смотреть на мать, которая, по уверению Карлайла, и заставила его признаться в диагнозе сыну. Смотреть, как умело она наслаждается оставшимися им с мужем днями, и поражаться ее стойкости, выдержке и любви.
А еще будет смотреть на Беллу. На то, как она легонько пожимает его руку и как улыбается. Сочувствующе, с любовью. Она знает. Ну конечно же знает — отсюда и разговор в машине, отсюда и поддержка во время ужина. Они все, кроме него, знали.
…А ночью, уже после окончания ужина и возвращения домой, где по стенам то и дело пробегают отблески фар поздних машин, Эдвард, не глядя на двойную дозу успокоительного, будет кричать во сне, сдирая кулаками простыни с матраса.
Читать дальше

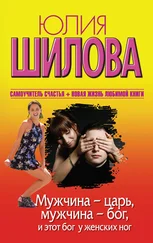
![Кирилл Корзун - Клинок чести [= Зов чести] [litres]](/books/393419/kirill-korzun-klinok-chesti-zov-chesti-litres-thumb.webp)