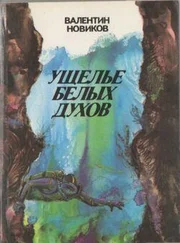Марушкины же никогда детей иметь не будут. Проходя мимо серых стен «прядилки», где работала его жена, Марушкин всякий раз проглатывал терпкий привкус кривды, ибо всю вину за свою беду он приписывал только ей, огромным грязным окнам «прядилки» и особенно холодным плиткам пола, на котором его жена простаивала ежедневно по восемь часов рабочей смены. Но в общем сердиться он должен бы больше на нее, на Лидию. За то, что совсем не с женским упрямством она стремилась перебороть, перенести на ногах любую болезнь, заглушить ее работой. Давно уж грызла его совесть: ведь сам-то он сидел прямо-таки развалившись, в хорошо прогретой кабине локомотива, а Лидия между тем наживала себе варикозное расширение вен и переохлаждала самые нежные свои места. Да, та работа, которую он всегда почитал, далеко не всегда приносила радость и здоровье. Когда же Лидия временами стала жаловаться на боль в суставах и оцепенение конечностей, Марушкину представлялась такая картина неподвижности, какая ему, железнодорожнику, казалась наиболее мучительной: машины ревут, работая с максимальным числом оборотов, сотрясают здание, но не могут сдвинуться ни на пядь, его жена также не может сдвинуться с места, мало того, не может пошевелить даже веком, по которому беззаботно ползает муха… Или как некогда в детстве… Один богатый хозяин славился печеной гусятиной. А чтобы гуси его становились тучнее и запекались бы лучше, он прибивал их за лапы к полу. Запомнился Марушкину гусиный глаз, в котором жизнь остановилась где-то в гуще ночи, и даже в полдень в нем трепетала мутная и кровавая мгла…
Ребенок плакал теперь уже словно по инерции, сила которой во много раз превышала хрупкое тельце, рыдания лились через край. И Марушкин не выдержал. Что, если они попросту ушли и оставили ее дома одну? Ну а если это не так, то почему они дрыхнут?! По какому праву?!
Он сел, снова засветил ночник, но жена на этот раз не проснулась. Затаив дыхание, он рассматривал ее. На опущенных веках проступила нежная ткань голубых прожилок, на переносице темнела отметина от очков. Лицо выглядело молодо, без какого-либо намека на морщины. Она еще долго будет такой. Никакие дети не беспокоят ее по ночам. Только девочкой пришлось ей заботиться о четырех своих младших братьях и сестрах.
В прихожей Марушкин надел шлепанцы, накинул на плечи старый плащ-реглан и вышел на лестницу.
Когда он нажал на звонок квартиры этажом ниже, то через неплотно закрытую дверь расслышал отголосок детского плача. Долго никто не отворял, но вот поток настойчивых жалоб внезапно прервался, наступила пауза. Щелкнул замок, двери приоткрылись на ширину локтя, и из грязно-серого сумрака на Марушкина воззрились неприветливые горящие глаза.
— Простите, это ваш ребенок…
— Девочка больна! — резко сказала женщина. Она была бледна, растрепанна, высветленные перекисью волосы странно отливали розовым.
— Но ведь она так вас зовет!..
— Я не мать ей, — сухо ответила женщина и обернулась к кому-то позади себя.
На пороге показался крепкий бородатый парень в майке и вытертых джинсах и сразу заслонил собой дверной проем. Узкие глаза его были налиты кровью — верно, от усталости, а может, просто заспанные, — но уже с первого взгляда было ясно, что он с трудом сдерживает себя.
— Что, беспокоит? — обратил он к Марушкину сладковатую усмешку, которая выглядела, скорее, ядовитой. — Знаете ли, дети обычно плачут. По ночам. Плачут, и все тут… Вот взгляните… — Он протянул руку с какой-то толстой книгой, пальцем, пожелтевшим от никотина, похлопал по потрепанной обложке: — Это нужно, скажем, проштудировать до утра. Сегодня. Политэкономия. Пустячное дело… Часок-другой тишины — и все было бы в норме. Но дети плачут, ничего не попишешь… А мать нарочно к ней не подходит, ведь так?
При последних словах он намеренно повысил голос, повернулся боком, чтобы лучше слышали там, внутри.
— Почему бы ей не подумать о покое других… А? Ну а как поступим с малышкой? — снова обратился он к Марушкину. Узкие глаза его резали, как бритвы. — Может, вы возьмете ее к себе? Так как, возьмете?
За спиной рассерженного парня мелькнула еще какая-то женщина, выше и стройнее первой, что касается остального, то у Марушкина осталось лишь мимолетное впечатление — край цветастой ночной рубашки, высовывающейся из-под махрового халата, тонкая рука с ободранным лаком на ногтях, высокий надрывный голос. Двери перед ним захлопнулись, пахнуло легким ароматом духов.
Читать дальше