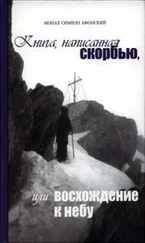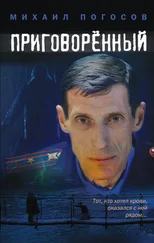Физическая боль покидает тело быстро. Сомнения в твоей душе — нет.
Но вот настал этот «счастливый, долгожданный момент», когда Сявкин сказал операм: «Всё, увозите их в СИЗО!» It was fucking great relief! Это был такой выдох, такое облегчение, такое «счастье», что на сегодня это наконец-то закончилось, мать вашу, гребаные ублюдки!!! Я не сломлен! И я внутри себя кричу, торжествую, ликую просто оттого, что выдержал еще один день, этот день! Тот самый, на который они возлагали столько надежд.
И всё! И нас забирают. И я, усталый, замученный, избитый, голодный и злой, но выдержавший эти сутки (так я думал), — спускаюсь на слабых ногах вниз. Вижу Пашку. Он видит меня. Взглядами и неуловимыми знаками мимики, движением тел сообщаем друг другу, что все нормально. Что все те пакости, о которых нам твердят опера друг про друга, — все это ложь и блеф! Я увидел его глаза, он — мои. И нам этого достаточно, чтобы понять, что каждый из нас — держится!
И все было бы ничего, если бы так закончился этот день, но…
Но дальше произошло вот что. Меня садят в «ниву», Пашку в иномарку. Как только мы выезжаем из двора УБОПа, моим сопровождающим поступает по рации команда: срочно вернуть меня назад, в кабинет, быстрее!..
Все связи и нити, поддерживавшие меня изнутри, обрываются. «Только не это, — думаю про себя, — только не обратно в кабинет». Ведь всех своих внутренних бойцов я уже распустил по домам. Какими силами мне сейчас держаться?!
С их стороны это был очень грамотно рассчитанный психологический ход. Почти удар. Даже без «почти» — удар. Меня это сильно подкосило, ведь я уже думал, что этот день закончен для меня, я выдержал. Пашку увезли. Я один. Уже без сил, как выжатый лимон. Их много. Они тоже устали и оттого еще злее. Зачем меня вернули? Уж точно не разговаривать — добить, дожать, додавить.
Меня поднимают снова на третий этаж, в самый его конец. Времени уже часов восемь-девять вечера. Темно. В здании никого не осталось. Заводят в кабинет, где меня встречают человек шесть — восемь оперов, и с ходу, не дав мне опомниться, кто-то с размаху пинает меня ногой в грудь. Я падаю на пол с каким-то вздохом удивительного и страшного разочарования, меня догоняет еще пара-тройка чьих-то жестких ударов ногами и крик: «Ты чё, сука, нам наврал! Нам Баженов все рассказал! Ты кого наебать решил, гондон?! Ты вообще охуел, что ли?!»
И понеслось! Все присутствующие разом начали просто рвать меня на части, я летал из угла в угол, по стенкам, по полу, под столом, с шумом разбрасывая имевшуюся в кабинете мебель. Били хаотично, кто куда. Кто не доставал руками — пинал ногами. Кто не дотягивался ногами, изрыгал устрашающую тираду, матерную желчь. Удары: слева, справа, сверху, снизу, градом — беспорядочно рушились на меня, не давая мне приземлиться и опомниться, что-нибудь сказать. Меня просто тупо мочили. Я был похож на испуганную шавку в клетке с разъяренными зверьми.
Валяясь по полу, я концентрировался на прилетающих ударах. Я был уязвим с застегнутыми руками. Вот у кого-то в руках появляется палка, она свистит в воздухе, оставляя жгучую боль в моем теле. А потом, как копьем, он тычет ею мне в грудь, в пах, обещает засунуть сегодня ее мне в жопу и сфотографировать. И даже достает фотоаппарат из шкафа (смартфонов тогда еще не было). И я уже вижу, что это не блеф… Меня валяли по полу, поднимали, били, роняли, снова били. Было больно, стыдно, страшно, унизительно. В этот момент я чувствовал себя ничтожеством! Я и был ничтожеством. В такие минуты самоуважение и достоинство исчезают, и ты становишься просто живым куском мяса, из которого старательно делают отбивную. И мне хотелось в этот момент только одного: умереть! Потому что я понимал, что единственное средство, которое всё прекратит, — смерть! Потому что я чертовски, нечеловечески устал! (Кто бывал в подобных переделках, тот знает, тот поймет.)
Меня валтузили минут двадцать, а может, и больше (мне казалось — вечность). Потом сказали, что будут работать со мной всю ночь в таком темпе. Один ушел за водкой. Второй пошел за «машинкой» (ток!). И я понял, что — всё! Я больше не могу! Я не выдержу больше! Начнут пытать током — я не выдержу! И в этот момент я понял, что перешагнул черту, за которой осталось желание жить и терпеть. И теперь я был абсолютно готов ко всему, к любому исходу событий! Это состояние про себя я называл «самурайским». Мне стало наплевать на жизнь, на себя, на боль, на всё и всех! Я перестал бояться. Меня довели до отчаянного состояния, граничащего с безумием. И я начал судорожно искать варианты, как уничтожить себя. Броситься в окно? На окне стояли решетки. Максимум, что смогу, — разбить стекло. Если повезет, то хорошенько порежусь. Но до окна далеко. Меня перехватят.
Читать дальше