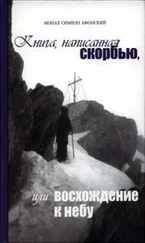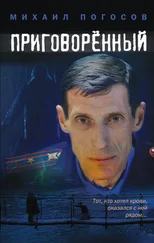Отказавшись в очередной раз давать показания, сославшись на право, закрепленное в статье пятьдесят первой Конституции РФ, я вызвал неприятную гримасу и нескрываемое раздражение на лице следователя Горлова.
Слава уехал. Исчез и Горлов. Я снова остался наедине со своими мучителями.
Темнело. И все пошло по новому кругу, но с удвоенной отчаянностью, силой и злобой.
— Ну чё, блядь, не будешь давать показания? — Удар. — Ты чё, думал, мы с тобой тут возиться будем? — Два удара. — Ты чё, гондон, вообще охуел?! — Удар. — Ты думал, нас тут прикалывает нянчиться с тобой, что ли? Да нам легче тебя заебашить где-нибудь по дороге в СИЗО — и всё! При попытке побега. Чё ты, не веришь, что ли? Кого ты из себя строишь! Крепкий орешек, что ли, а! — Удар. — Да вы скоро наперегонки будете давать показания, не веришь?! Чё молчишь? Будешь разговаривать?
Удар, удар, удар, удар — беспорядочная возня на полу, где я пытаюсь увернуться от ног в тяжелых ботинках, шум, крик, гам, мои постанывания.
Кряхтя, поднимаюсь, сажусь снова на стул. Дышу. Мне больно, мне унизительно, мне страшно оттого, что заканчиваются силы терпеть все это! А что будет потом, когда они закончатся? Потом наступит слом, собственный, никому не известный позор, а за ним облегчение? Но в целом-то легче не станет.
Терплю. Крайняя черта на расстоянии руки. «Надо терпеть», — шепчу себе.
Так продолжается еще пару часов. Они входят и выходят, говорят что-то зло, бьют с остервенением, потом меняются. Дымят в лицо, унижают, кричат, не дают пить, не водят в туалет, заставляют стоять, не разрешают снять этот гребаный пуховик. Весь день я провожу со скованными за спиной руками, абсолютно мокрый от пота, вонючий, грязный и помятый!
Да, это были настоящие истязания, после которых меня увезли в СИЗО, где меня ждали сытые, выспавшиеся три козла, которые продолжали меня выматывать, не давая отдыхать, спать, восстанавливать силы. В эти дни мне казалось, что моего осталось только несколько кубических сантиметров внутри головы. Все остальное растаскано стервятниками, то тут, то там, даже тело не принадлежало мне, его постоянно клевали, терзали, растаскивали зубами злые гиены. И так все мчалось по кругу, целыми сутками. Я, как ёбаная лошадь, изо дня в день мотался из СИЗО в УБОП и обратно. И уже мечтал, чтобы меня просто пристрелили где-нибудь по дороге и сбросили в канаву, там, где я смог бы найти окончательный покой! Просто отдохнуть, просто забыть все это раз и навсегда! Не просыпаться, превратиться в воспоминание. И всё! Я хотел этого. Потому что «ад — это когда уже нельзя терпеть, но умереть еще не дают» (прочитал я уже после всего у Захара Прилепина). И на сегодняшний день для меня это самое точное определение мучений, что я испытал. Потому что я был в этом аду!
Я знал, что где-то в соседнем кабинете работают с Пашкой. Я не знал, как с ним работают. Обычно, когда бьют, сквозь тонкие стены доносятся крики, удары, возня. Но в этот день ничего такого не было слышно. И каждый раз, когда в кабинет заходил кто-то из оперов, он говорил: «Ты чё такой упертый, а? Вон Баженов уже давно всё рассказал, а ты бычишься». Я отвечал: «Да ради бога, но тогда зачем вы меня весь день бьете, если вам уже все известно?» Их неизменный ответ всегда был: «Да мы тебя (вас) еще даже не били. Это только так, разминочка». Ага, думаю, уже двадцатый день разминаетесь.
Я не показывал виду, но сердце екало от таких угроз. Если они «не начинали бить», думал я, то что же они подразумевают под настоящими избиениями? Но я понимал, что это блеф. И про Паху тоже лажа. Ни слову не верил! Я для себя сразу решил: кто бы что ни говорил, кто бы что ни делал — я буду стоять на своем! Не давать никаких показаний, и даже если кто-то из пацанов начал давать — неважно! Я — не буду, пока хватит сил. Но каждый божий день опера вдалбливали в голову гадкую мысль, что все уже давно всё рассказывают, а я, как дурак, уперся и теряю все шансы вернуться на свободу. Этими мерзкими провокациями они старались отравить мою веру в друзей, подточить ее, посеяв крохотное сомнение: «А вдруг!» Эта низкая, но эффективная тактика — неотъемлемая часть психологического давления оперативников и следователей.
Я гнал подальше эти размышления, не потому, что я был на сто процентов уверен в других, нет, а потому, что мне было противно об этом размышлять. Противно думать о близких людях плохо. Очень часто как раз близкие люди и предают (я не наивен), но думать об этом, допускать эти гадкие мысли — больно. Но тем не менее, как бы ты ни был морально стоек, после многократного повторения этой предательской идеи (хотя бы в виде «допущения»), после физического истязания в твою душу подло, на цыпочках, потихоньку закрадывается эта мысль: «А что, если это так?!» И тебя посещает противное чувство, очень неприятное!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу