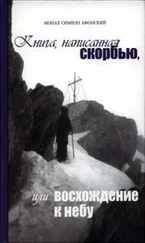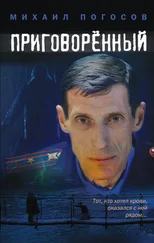Я обнялся с друзьями, кто был поблизости. В последний раз. Меня торопили, спешили увести первым. Никаких обнадеживающих и фальшивых фраз мне никто не говорил. Слова вообще были лишними в данной ситуации. Все нужное читалось в глазах. Но когда Лёха обнимал меня, то шепнул на ухо одну фразу. Такое говорят, когда расстаются надолго или навсегда. Сказанное застряло в ушах и осело в долгосрочной памяти. Это останется между нами, хотя я уверен, он слов этих уже не помнит.
Сказанное придало вес и обострило понимание момента последнего расставания. Все смотрели на меня, и казалось, что это были мои проводы. Мне кажется, я старался делать вид неунывающего оптимиста. Не знаю, насколько удачно мне это удавалось, но, когда меня уже заковали в наручники и уводили, я крикнул что-то подбадривающее про Страсбургский суд. Видимо, мой ум, как утопающий, хватался за последнюю соломинку, которой являлся Европейский суд.
Три минуты назад рухнула моя последняя надежда, а я уже искал новую.
Ничего нельзя поделать с человеческой натурой, без надежды человек — мертв!
Я уходил, понимая, что, по идее, мы никогда уже не должны увидеться. От этих жутких мыслей спасало лишь отрицание. Пока я двигался по коридору в обратном направлении, я еще был способен реагировать, был способен разговаривать, казаться адекватным. Но внутри меня уже все онемело. Это был момент оглушительный. Судьбоносный. Роковой. И вот когда меня оставили одного в камере, когда я перестал быть объектом внимания и отпала необходимость притворяться — я сел на шконку и тяжело вздохнул. Мои мимические мышцы расслабились. Лицо мое осело, обмякло, устало, как порванный парус в безветренную погоду на заблудившейся лодке. Меня посетило чувство, что меня повторно приговорили к «ПЖ». Дежавю. Паршивенькое чувство, я вам скажу. Как будто все снова повторилось, и следовало снова искать где-то душевные подпорки, силы, чтобы как-то заполнить эту бездну знакомого отчаяния.
Это была минутная слабость.
Чуть позже, когда я уже лежал в постели, а взбудораженный мозг не смел успокоиться, прокручивая случившееся, открылась кормушка. В ней, к моему удивлению, появилось лицо Сявкина (главный опер, которой возглавлял оперативное сопровождение моего дела). Я подошел к двери в одних трусах.
— Ну что, я же говорил тебе, а ты мне не верил, — заблеял он о своем, сука.
И так было тошно на душе, а глумливая ухмылочка на его роже не добавляла мне настроения.
Я спросил его: «Чё надо?» Он понес какую-то пургу, направленную на развенчание моих идеалов, ради которых я пострадал. Давил на больное, взывал к жалости.
— Вот видишь, — говорил он, — надо было шагать с нами в ногу, и не было бы у тебя «ПЖ». Я же обещал тебе, говорил, предупреждал, хотел помочь, а ты уперся. И вот результат — «ПЖ»! И кто теперь тебе поможет? Скрипник?! Он сам сейчас радуется, что соскочил с пожизненного. Так что ты не на того поставил.
— Я ни на кого не ставил. Чё надо? — повторил я вопрос.
Сявкин получал удовольствие, длил момент персональной победы. Это был обязательный, последний штрих, раздувающий его эго до невероятных величин. Ему нужно было обязательно лично показать «врагу», что он побежден. Наверное, без этого он бы чувствовал себя неполноценным победителем.
Потом он заговорил про какие-то «висяки», в которых мне следует «раскаяться». В ответ на мое изумленное молчание он попросил «подумать», гаденыш.
— Мне не о чем думать, и вообще, мне пора спать, — сказал я, устав его слушать.
— Ну ладно, до встречи, ты подумай еще.
— Мы уже не встретимся, — ответил я.
— Да нет, мы еще увидимся.
— У меня нет желания с вами больше встречаться, так что прощайте.
С этими словами я встал и отошел от двери, точнее от решетки, которая находилась в одном метре от «робота». Кормушка захлопнулась. Я лег на шконку. Смотрел в потолок. Слушал звуки тихо удалявшегося Сявкина, который не имел права здесь находиться. На душе было гадко. Его визит оставил неприятный осадок и не предвещал ничего хорошего. Дополнительные волнения мне были совсем ни к чему, хотя что может быть хуже того, что я уже имею?! Это был один из паршивейших дней моего заключения! Их было так много, но вот этот был самый паршивый.
Когда рухнули почти все надежды, когда не оправдались мучительные ожидания, когда над тобой злорадствует враг, когда ты остался совсем один, заглядывая в черную пропасть тюремной вечности, — вот тогда этот день имеет все права называться самым паршивым!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу