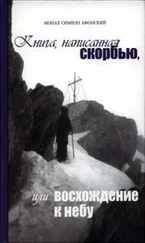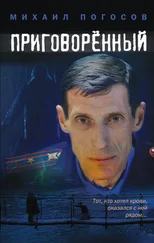* * *
Как я говорил выше, мой первый карцерный срок равнялся пяти суткам. Потом мне раздавали только «десятки» и «пятнашки», и в других карцерах уже не было черной икры и винограда. Если я попадал в ШИЗО, то находился в нем минимум месяц. Поначалу было непросто. Но человек ко всему привыкает. Какое-то время между нами (подельниками) установилось негласное первенство: кто дольше пробудет в ШИЗО без выхода.
Когда мы начали готовиться к даче показаний, меня упекли туда на пару месяцев с целью осложнить мне процесс подготовки.
Иногда условия были очень суровыми, иногда — очень даже благоприятными.
Помню одну «пятнашку» на ТПО, которая заканчивалась прямо перед Новым годом (2005 г.). Как всегда перед водворением в ШИЗО, меня осмотрел врач. У меня оказалось повышенное давление, и я оказался слегка простужен. Мне предложили дать отсрочку на два дня. Я отказался. Потому что тогда бы я встречал Новый год в карцере. Карцер был чертовски, чудовищно холодный! Он располагался на углу корпуса, две стены из четырех выходили на улицу. Стояли морозы минус тридцать пять — тридцать девять градусов. Окно было с широкими щелями, из которых тянуло губительным холодом. И их нельзя было заделать, потому что на окне был установлен «намордник», болты которого были в инее. В то время деревянных полов еще не настелили. Сырой бетонный пол источал холод и забирал силы. Батарея еле грела. Мерзли пальцы рук, уши, даже голова. По утрам часто шел пар изо рта. Но тяжелее всего было по ночам. Они были бессонные. Я просыпался от холода под грязным ватным одеялом, которое принес с собой из камеры, одолжив у сокамерника. Оно было самое теплое из всех имеющихся, но даже оно не спасало от холода.
Когда я просыпался от озноба, мне хотелось кричать от злости. Приходилось вставать и приседать, чтобы согреться. Потом я залезал под одеяло с головой, сворачивался в позу эмбриона, тщательно затыкал все щели и пытался нагреть пододеяльную темноту своим дыханием. Этого хватало минут на тридцать-сорок. Потом замерзал снова. Снова вставал, и приседал, и отжимался.
И так всю ночь.
А под утро приходили и забирали у меня одеяло, постель, поднимали шконку. В результате я не высыпался, не согревался и постоянно был голоден. (Но ведь в этом и заключаются карцерные страдания.)
Однажды я сделал в этом карцере девятьсот шестьдесят отжиманий часа за полтора. Эти условия отбирали всю мою энергию, все мое тепло, опустошая запасы моей души.
Согреваться я ходил на улицу. Это покажется парадоксальным, учитывая, что на улице было минус тридцать пять градусов. Это был мой метод сопротивления. Я носился на улице как угорелый: приседал, бегал, отжимался, делал выпрыгивания. Согревался! Возвращался в камеру, и после этого дикого мороза температура в карцере казалась мне комфортной и теплой, как в Ташкенте. Целых несколько часов я наслаждался мнимым теплом и не мерз. А потом снова — сырость, холод, озноб. Усугубляло положение еще то, что я был простужен. Никого не волнует твое здоровье, особенно когда ты в карцере. Карцер — это такое место, где все твои права, желания, человеческие привилегии становятся невидимыми, а сам ты опускаешься на пару ступенек вниз по социальной лестнице внутри тюрьмы.
Но, несмотря на все, я научился быть довольным в таких условиях. Когда мне удавалось попить горячего чая с парой шоколадных конфет, а после этого выкурить крепкую сигарету, то я, на фоне моей гиблой аскезы, чувствовал себя счастливым человеком. Мне казалось, что все хорошо, что мир добр ко мне и что у меня все замечательно. И не беда, что изо рта идет пар, что я сижу на полу голой, холодной, убогой камеры, что мне корячится «ПЖ» и что жизнь моя в целом под вопросом. В такие минуты я просто наслаждался моментом, крохотной удачей среди сплошного невезения. Так и выживал: минута за минутой, час за часом, день за днем, от одного постановления к другому. Каждый преодолевает трудности по-своему. Кого-то они пугают, кого-то стимулируют, кто-то видит в них смысл. Еще Виктор Франкл писал, что страдание — часть жизни, часть человеческого бытия, что в страданиях есть и нужно искать смысл. Уж он-то знает о человеческих страданиях всё: Биркенау, Освенцим… Сожженная в крематории семья. Голод. Беспрерывно смотрящая в глаза смерть…
Схожие размышления о смысле страдания вложил в дело Раскольникова Достоевский. Я тогда еще не читал этих книг, проходил через всё сам, ощущая всю боль на своей шкуре, шагая сквозь чудовищные муки, заступая за черту. Параллельно я приходил к определенным выводам. Я научился сносить и привыкать к тому, к чему привыкнуть, казалось, невозможно. Я научился извлекать преимущества из гиблых ситуаций. Свое выживание я произвел в ранг искусства и порой получал удовольствие от результата. Секрет заключается в том, чтобы научиться, суметь полюбить то, что тебя раздражает. В страданиях трудно находить смысл. Но я нашел свой. Я самостоятельно пришел к тем же выводам, о которых позже узнал из книг Франкла, Достоевского, Шаламова, Солженицына (хотя двое последних имели разные точки зрения относительно лагерного опыта и влияния его на человека). Просто они очень толково, тщательно и последовательно оформили пережитое в слова. А я только познакомился с этим опытом в ощущениях. Прочитанное мною в книгах оказалось очень близко и созвучно тому, что я испытал, что прочувствовал, к чему пришел. Было приятно осознать, что есть кто-то, кто очень точно описал этот опыт. В сущности, все давно уже описано в книгах великих. Нет ничего нового! Меняется лишь обстановка, цифры на календаре, политический строй, обстоятельства, но то, что испытывает человек, проходя сквозь разные круги ада, — неизменно! И это подробно зафиксировала литература на разных языках мира. Я не открываю ничего нового. Я лишь отрефлексировал свой персональный ад, подтвердив общечеловеческий опыт.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу