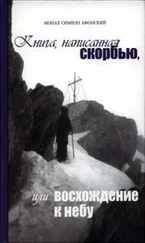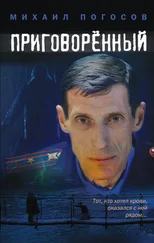Пока я колебался, Геннадьич (так его все звали) подтолкнул рюмку со словами:
— Давай, давай, не гони, помяни Пашку, он же был тебе другом.
И со всем присущим ему лицемерием полез ко мне в душу, задевая очень личные и дорогие мне вещи, в которых ему места совсем не было.
Я посмотрел в его ничего не выражающие глаза. Посмотрел в окно. Помедлил. Вспомнил Пашку. Еще раз заставил себя осознать, что его уже нет. Почувствовал тоску, обиду, бессилие. Горло свело спазмом. Глаза заволокло влагой. Сморгнул накатывавшуюся слезу и выпил. Затем сказал:
— Так зачем вы тогда его убили?
И долго потом слушал его жалкие аргументы в пользу того, что Пашка был им нужнее живым, а не мертвым.
А в конце нашей душещипательной беседы Геннадьич дал мне понять, что следует изменить свою позицию по делу, иначе кто знает, что может случиться в тюрьме. «Вас не защищают, вы пешки! Вы никому не нужны», — резюмировал он.
Хотелось сказать, что он дурак, но он только играл дурака. Больше хотелось плюнуть ему в глаза за то, что оскорбляет мой разум этой чушью, за эту плохо прикрытую ложь, да и вообще — за всё, что они сделали с нами.
Такие поездки на Байкальскую меня сильно утомляли, напрягали, нервировали. Эти беседы в кабинетах ласковых хищников, игра «в друзей», скрытая и явная угроза: «сделай правильный выбор и останься в живых, дай неправильный ответ — и страдай». Сохрани или уничтожь себя, свою жизнь. Успей купить билет на поезд, их мало, а поезд уходит. И эта глумливая ухмылочка самоуверенного человечка, и его пожелание: «Всего хорошего».
Такие беседы выматывали меня. Я возвращался в камеру без сил и с дикой головной болью. Ужинал. И часами лежал, уставившись в потолок, отмахиваясь от своих наседок, которые семенили вокруг меня со своими новыми оперскими задачками.
* * *
Так продолжалось какое-то время. Меня вывозили на следственные действия. Я подписывал стопки каких-то экспертиз и постановления о назначении их в присутствии своего адвоката. Затем Слава уезжал, а я оставался. Меня мурыжили беседами. Угрожали, пугали, шантажировали, лгали, давили на жалость, говорили правду. Это происходило регулярно. Меня не оставляли в покое ни в УБОПе, ни в СИЗО. Просто сменилась тактика и способ воздействия. Пытки, избиения, пресс-хаты не дали желаемого результата. Но, сказать по правде, у следствия было уже достаточно показаний (добытых под пытками), чтобы передать дело в суд, пускай и не с той полнотой доказательств, которой им хотелось. Несмотря на это, следствие по инерции продолжало душить. Я жил в напряжении, в ожидании, в тревоге. Тревога присутствовала во всем. Но это никого не волновало, кроме, может быть, Славы, потому что я передавал ему какую-то часть этого неспокойного состояния.
* * *
Дойдя до этого места, я задумался. Стоит ли продолжать дальше мое повествование? Не то чтобы у меня пропал интерес к своей истории и ее пересказу, скорее, возникло за все эти годы некое невнятное препятствие, лень памяти. И неохота переживать уже пережитое. Хотя все самые тяжелые испытания, все самые тяжелые моменты я описал, как мне кажется, вполне подробно.
Впереди дальше — мельтешение маленьких неудобств, маленьких физических мытарств, череда карцеров, нервотрепка, частые шмоны, новые знакомства и тюремные перемещения.
Мытарства были не такими уж и маленькими. Это я их называю маленькими, потому что они меня не убивали, как предыдущие; скорее наоборот, укрепляли меня. А для обычного человека, новичка, это стало бы серьезным испытанием.
Задумался: продолжать ли? Потому что сейчас в мое крохотное окно светит мартовское солнце, потому что прошло уже много лет и мне не угрожает та опасность, которая угрожала тогда. Мне кажется, что я в относительной безопасности и в колыбели этой мнимой неугрозы. Дальнейшие месяцы, годы, проведенные в иркутском СИЗО до вынесения приговора, представляются мне менее интересными для того, чтобы рассказывать о них с тем же увлечением и так же подробно, как делал это прежде.
Я не имею представления о том, что у меня выходит, что получается, как это будет смотреться. Пока не увижу всю картину целиком — не пойму, что я написал. И все равно не смогу оценить объективно. Я предвзят к своей писанине. Это глубоко личная история. Пережитое мной — дорого, потому что это часть меня. Но я не могу знать, насколько это будет интересно чужому, постороннему человеку. Я не нуждаюсь в признании, я не нуждаюсь в принятии или отрицании всего рассказанного мной от широкого читателя. Изначально я хотел высказаться, вспороть грудную клетку, чтобы достать оттуда почерневшие сгустки залежавшейся обиды, боли, злости, разочарования, иначе все могло перерасти в злокачественную опухоль и уничтожить меня преждевременно.
Читать дальше