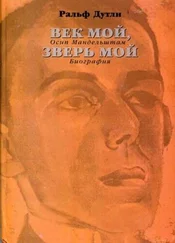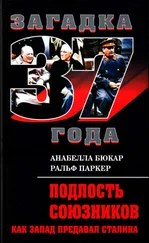Они сходили с ума по его картинам и, принимая их в свой великолепный дом в Лев, чествовали как самых дорогих гостей. Это немое, самоотверженное ожидание Кастенов кружило ему голову. Мир ждет его картин! Ждет суетного счастья. И он делал вид, будто его действительно терзают сомнения: а сможет ли он написать следующую картину. Каждый завершающий мазок был для него как самый последний. Он любил эту мещанскую комедию. Все летние месяца он жил там, обласканный, в лоне блестящей французской буржуазии, с любопытством наблюдая за ней и находя очаровательными ее причуды и церемонии. Вечера в салоне, белая музыка Эрика Сати, звон бокалов с шампанским. У рояля все еще висит зонтик, забытый Сати в 1924 году.
Стол накрыт!
Не впрямь ли он сейчас услышал эту фразу – здесь, в катафалке? Его вежливо приглашают к ужину, он надевает настоящий костюм, хотя даже в заляпанном краской комбинезоне чувствует себя уважаемым и желанным гостем. Вот если бы в Смиловичах могли увидеть этот спектакль! Только прислуга смотрит на него с недоверием, когда он хочет ее рисовать. А она-то как раз очень интересует его. Повариха, слуга. Ничто тут не напоминает о детстве – французское лето вытравило его без остатка.
Генри Миллер пишет: Сутин теперь уже не такой дикий, он даже рисует живых животных! Больше никакой крови, только грусть.
И еще женщин с книгами, непринужденно лежащих на траве, увлеченно глядящих на страницы широко раскрытыми глазами. И раскачивающийся кафедральный собор в Шартре. Движение замерло, достигнув цели, светлый ландшафт принял его в свои объятия и нежно потрепал по голове. Оползень, начавшийся в Сере, остановился.
Но он ни на секунду не забывает, где находится, по-прежнему с жаром набрасывается на газеты, чтобы понять, какие книги сжигают в соседней стране, какие картины объявляются выродившимся искусством, какая война маячит на горизонте. Пестрая смерть еще далеко не преодолена. Хотя теперь он даже рисует живых животных. И Шарло, которому он подарил палитру. Маленьких бродяжек из Сиври и Шампиньи – осколки метеорита, упавшие из космоса.
Когда приходят оккупанты, его суетное счастье устраивает так, что он становится невидимым под своей синей шляпой. Штамп на фотографии получается размазанным. И никто не видит звезду у него на груди. И он не идет в западню, уготовленную на Зимнем велодроме. Его ищут, но он исчез. То было всего лишь суетное счастье исчезновения. И счастье поддельных документов.
Язва желудка оставалась с ним, боль зажимала рот всякому всегда неожиданному счастью. Он боялся, что станет другим, что уже стал другим. Старая рана должна оставаться открытой. Исчезнет она, зачахнет и его талант. Нищета, голод, уродство – в них скрыты великолепные возможности. Совершенная красота покоится в себе, она вырывает кисть у него из рук. Красавицы Модильяни – он не может их видеть. Они наполняют тела легким свечением, будто бумажные фонарики. Красота гасит их.
Он огорчается, когда при нем заходит речь о справедливом мире. Художник любит несправедливость, видит в ней шанс. Справедливость представляется ему никудышной богиней, которая мечтает сделать человека мельче. Самый ничтожный шанс ему несравненно милее. Все в мире распределяется несправедливо, понимаете, все. Здоровье, богатство, красота, талант, слава. Лишь неравное способно вдохновлять и окрылять. Любой поединок по кетчу для него дороже, чем лучшее мировое устройство. Жалкое стремление, горькое желание, бессмысленная надежда.
Он боится стать другим. Он роется в старых тряпках первых обид, худшего оскорбления. Все берет начало там. Ты произошел из раны. Она – твое свидетельство о рождении, паспорт на всю жизнь. Ты должен ее холить и лелеять, не расточать ее впустую. Пальцем, измазанным краской, держать рану открытой. Не перевязывать. Ни в коем случае не дезинфицировать. Тем же большим пальцем, который он однажды вывихнул во время рисования. И на картинах Рембрандта он узнает отчаянный большой палец. Он тоже иногда рисовал пальцем.
А потом происходит что-то, чего он не ожидал.
На его лоб опускается рука. Он удивлен и думает вначале о Мари-Берте, но это не ее рука. Каждая рука говорит по-своему, каждая имеет собственную тяжесть, свою особенную весомую мягкость, каждая черточка на ней обладает своей собственной температурой. Он в изумлении поднимает глаза. И сразу же узнает ее.
Гард, что ты делаешь здесь, в машине?
Рука гладит ему лоб, вначале – нежные прохладные подушечки пальцев, потом их более теплая тыльная сторона, едва касаясь, в одну сторону, затем в другую. Она склоняет к нему свои тронутые улыбкой губы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу