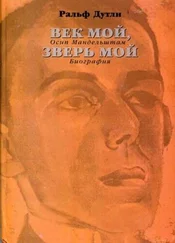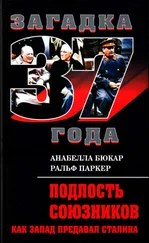Русский не сдается, он подвигает ему по столику стихотворение, пусть Сутин наконец прочитает его, чтобы понять.
Рай… широкая, пустая… оснежённая страна… призрак неба белого… тишь и белизна… там над озером пушистым… сладким холодом дыша… светит леса молодого… белая душа… там блаженствовать я буду… в блеске сети ледяной… пробираться, опьяненный… вечной белизной… и, стрелою из-под веток… вылетая на простор… на лучистых, легких лыжах… реять с белых гор…
Русский резко поднялся, почти закричал на художника и вышел из кафе, громко восклицая:
БЕЛЫЙ РАЙ! БЕЛЫЙ РАЙ!
Он лежит и пытается думать, но в голове нет ни одной ясной мысли. Он теперь в Ле-Блане? Рай – широкая, пустая страна. Пиренеи его памяти теперь такая же оснежённая библейская земля. Снег выше колена, как пшеница летом.
Существуют ли здесь дни? Во всяком случае он не замечал, чтобы свет с течением времени как-то менялся. Никто не показывается, ни врач, ни дознаватель. Только бледная медсестра неслышно проскальзывает в палату, приносит ему еду. Его голод все еще с ним, но это уже не та всепоглощающая ненасытность, как когда-то в Улье. Он с благодарностью принимает пищу от медсестры и слишком робеет, чтобы поговорить с ней, расспросить.
Он никогда не умел разговаривать с женщинами, делать комплименты, льстить. Только сглатывал пересохшим горлом, путался в словах, упорно молчал. Однажды в Кламаре огорошил горничную, пролепетав ей в удивленное лицо:
Ваши ладони такие нежные… как тарелки.
И он дивится здешней еде. Бледная лапша, белый сливочный соус, снежинки сыра, разбросанные сверху, белая листовая свекла, белые щучьи фрикадельки, капуста, белая спаржа, соус бешамель, белая телятина, творог, молочные супы, как облака, рисовая каша. Белый горох. И совсем нет моркови. Из яиц удалены желтки.
Но нет, это еще не все. В один прекрасный день – но есть ли здесь дни? – ему приносят белую клубнику, нежные маленькие плоды, и он недоверчиво рассматривает крошечные шрамы на их белой кожице.
Можно ли ему вставать? Скорее всего, нет.
Он снова в середине мира, но ближе к ее краю, в том мире, который он наблюдал из тихого уголка «Ротонды», поджидая щедрого посетителя, который угостит его чашкой café-crème . Остальная часть вселенной не имеет значения, здесь средоточие мира, несколько улиц и три кафе, где происходит самое важное. Три храма в этом священном районе, и имена их – «Ле-Дом», и «Ротонда», и «Куполь». Очередной восторженный летописец или подвыпивший евангелист провозглашает свою рокочущую истину, и Сутин навостряет уши:
Каждый, чья нога хоть раз ступала в наше кафе, навсегда заражается тем, что мы, художники, называем чумой Монпарнаса. Это не сифилис и не какая-то другая болезнь, но гораздо хуже: неизлечимая болезненная тяга к этому месту, интереснее которого в настоящий момент нет на всем земном шаре.
И если никакого благодетеля так и не появляется, это еще не конец блаженства. Теперь он видит перед собой Либиона, хозяина «Ротонды», с подрагивающими усами, который молча машет ему рукой из-за стойки. Даже во время Первой войны этот храм каким-то образом создавал видимость нормальной жизни с запахом кофе. Сутин несколько раз быстро втягивает воздух через ноздри. Ах, райское наслаждение, café-crème ! Пусть другие восхищаются хинными ликерами, мандариново-лимонными коктейлями, амер-пиконом, кюрасао и джин-физзом – желудок Сутина требует лишь одного: успокаивающего, пенистого молочного кофе. Там можно все утро сидеть за чашкой, перемешивать пустоту, греться у печи. Либион, Либион! Случается, правда, что наезжает полдюжина полицейских на велосипедах, они окружают храм и кричат:
Облава!
«Ротонда» – цитадель русских революционеров, маленький большевистский остров, скудное эльдорадо дезертиров и пацифистов, которые не хотят испускать последний хрип в окопах. Противники войны заклеймены как пораженцы, здесь они могут проклинать войну. Либион налепил на стены несколько патриотических плакатов, в качестве своего рода прививки.
И вот уже следующая война в длинном ряду. Художник снова обнаруживает себя на краю центра мира, и он куда-то едет в 1943 году. Великая эпоха давно миновала, даже этот центр наполнен печалью, даже центр – оккупированная зона в оккупированной стране, и каждый второй здесь, как всем известно, шпик или едва замаскированный гестаповец. Париж, кажется, их любимое гнездо.
То, что было центром, стало лишь сном, в котором художник отсутствует. Он стал невидимым, гестаповцы могут сколько угодно высматривать его по всем углам «Ротонды». Сутин теперь покоится в белом раю, но тоже с краешку, как в своей привычной обители в мире Монпарнаса.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу