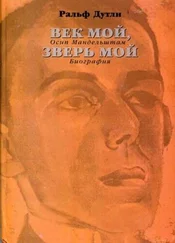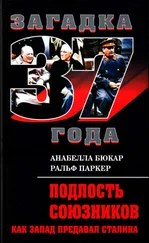Старик Оранш, налоговый чиновник на пенсии, привлекает меньше внимания, чем художник. Он тихо открывает дверь, ничего не говорит, кивает и хмуро указывает художнику на диван.
Они не разговаривают друг с другом. Друзья дочери всегда казались ему подозрительными. Побывав у врача, невидимка на следующее утро пробирается к вокзалу Монпарнас, чтобы сесть на поезд в Тур. Париж теперь – это только посещение врача и пополнение запасов папаверина и висмутового порошка.
С 20 октября 1940 года он зарегистрирован в картотеке Тюлара как juif , еврей. Его номер 35702. Выйдя со своей карточкой из супрефектуры округа, он смеется над смазанным штампом на своей фотографии и говорит Хане Орловой:
Они испортили мне моего еврея.
Он никогда не носит желтую звезду. Или его звезда тоже невидима? С 7 июня 1942 года знак должен быть прочно пришит и находиться на видном месте, за неисполнение грозит арест. При выдаче звезды с карточки на получение одежды убирают один пункт. В рейхе евреям не приходилось снимать пункты за звезду. У них не было никаких одежных карточек. А вскоре дан старт сбору звезд, все чаще происходят облавы. Потом транспортировка в Дранси или Питивье, Компьень или Бон-ля-Роланд, транзитные лагеря близ Парижа. Прикалывать булавкой или кнопками запрещается. Только пришивать, накрепко, насквозь, лучше всего к коже.
Он с самого начала был полон решимости не носить ее. Художник Хаим Сутин всегда невидим под своей шляпой. И его звезда тоже.
Однажды он пугается: из ворот на улицу покачиваясь выбегает женщина, уткнувшись лицом в большой белый носовой платок. Вероятно, это было после июля сорок второго, в каскаде массовых депортаций; вначале депортировались «иностранцы», позже настал черед даже их детей. Он резко останавливается на тротуаре, женщина стоит посреди улицы прямо напротив него. Он замирает от ужаса, когда она поворачивается и обращается к нему «месье Эпштейн».
Она всхлипывает, говорит отрывисто, то и дело прижимая к глазам белый платок. Отчаяние, по-видимому, настолько овладело ею, что она уже не понимает, с кем разговаривает, или, может быть, сошла с ума от боли. Она даже не взглянула ему на левую сторону груди, на которой ничего не пришито, а сразу заговорила. Не в силах удержать это в себе, она быстро проговаривает:
Месье Эпштейн… Что они будут делать с детьми? Если они увозят людей на работу, зачем им тогда малыши? Пожалуйста, месье Эпштейн, ответьте же что-нибудь… это ведь страшная нелепость, зачем нужны дети двух, пяти лет в трудовом лагере? Как может страна, которая ведет войну, совершать такие чудовищные глупости? Кому от этого польза? Все настолько бессмысленно, как это может помочь, если они арестуют женщин и детей… Это немыслимо, месье Эпштейн, разве нет?.. это чудовищный механизм, который нас перемелет, скажите же что-нибудь…
Но безмолвный художник Хаим Сутин стоит будто окаменевший, глядя из-под своей темно-синей элегантной шляпы в искаженное ужасом, рыдающее лицо. Не произнося ни слова, он делает медленный шаг назад, готовясь пуститься в бегство.
Если эта женщина узнала в нем того, кто на самом деле должен носить зубчатый знак на левой стороне груди, разве удастся ему проскользнуть мимо оккупанта? Женщина внезапно заставила его усомниться в своей невидимости. Неожиданно посреди тротуара он сделался видимым, правда, в качестве месье Эпштейна, но все-таки видимым. Ошеломляюще видимым.
В конце Лебединой аллеи на левом берегу Сены, если следовать вверх по течению, был виден Зимний велодром на бульваре Гренель недалеко от Эйфелевой башни. Раньше он смотрел здесь в качестве воскресного отдыха соревнования по кетчу и боксу. Теперь Зимний велодром превратился в загон для жертв массовых арестов, огромный темный водоворот, куда их бросали без разбора, чтобы потом, скорее мертвых, чем живых, вывалить из вагонов в одном труднопроизносимом месте в Польше. Во время облавы 16 и 17 июля 1942 года парижская полиция по приказу Леге, помощника начальника вишитской полиции Буске, согнала сюда, как скот, арестованных евреев.
Художнику приходит на ум восторженное восклицание Кико, когда он в 1913 году только что прибыл в город своей мечты:
Здесь нет казаков, нет толп мародеров. Когда-нибудь нам перестанут сниться погромы. Но этот вечер останется с нами навсегда. В этом городе никогда не будет погромов, понимаешь…
На этот раз казаки говорили по-французски, циркуляр № 173-43 префектуры полиции предписывал арестовать иностранных евреев. В одном Париже их более тринадцати тысяч. Половина из них на реквизированных городских автобусах немедленно отправлена в лагерь Дранси к северу от Парижа, остальные загнаны на велодром. Но многие просто скрылись на время облавы. Среди них невидимый художник. С тех пор как мадемуазель Гард отправилась туда два года назад и больше не вернулась, он не собирался следовать никаким предписаниям и с октября сорокового ни разу не возобновлял регистрацию. На стадионе с зимним названием люди исчезали в небытие, в вечную зиму. Из загона вел прямой путь к смерти.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу