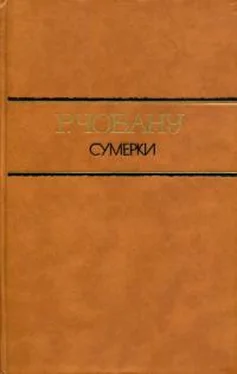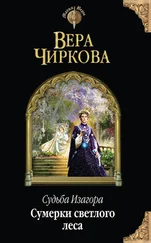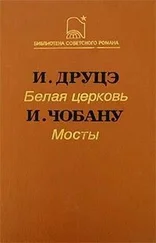— Ну, что нового, Кива?
Сторож взял конверт и прищелкнул каблуками.
— Да вот… с героями возжаюсь, господин адвокат!
Говорил он бравым голосом, не без хвастовства, как огородник про свои огурцы и фасоль.
— Что-то сильно поросли травой твои герои, — хмыкнул старик, бросив искоса взгляд на длинные ряды крестов.
— Что ж поделаешь: герои господни и травы господни, — философски заметил Кива и тут же, понизив голос, хотя на кладбище не было ни души, зашептал, — говорят, придут коммунисты и… того, значит… все добро отберут…
— Кто говорит?
Быстрый, суровый вопрос, а на деле — испуг.
— Народ… Народ зря говорить не станет.
— Болтовня! Язык без костей — вот и треплют…
— Так-то оно так… да уж больно на правду похоже.
— Что ж немцы лучше?
— Ну… как сказать…
Старик снисходительно улыбнулся.
— Хе-хе… Моли бога, братец, что ты не жид а то бы из тебя сварили мыло!
— Куда же нам податься?.. То есть румынской нации, значит… какая диплуматия выходит?..
— Румынам остается одно: помочь немцам — раз уж мы с ними такие друзья, — разбить русских, а потом, объединившись с братьями французами и англо-американцами, прогнать немцев. Им не привыкать. Но для этого нужен один-единственный человек.
— Кто же, осмелюсь спросить. А? Господин адвокат…
Старик многозначительно помолчал, как бы прикидывая, можно ли доверить Киве столь важную государственную тайну, смерил его взглядом с ног до головы и, выпятив вперед подбородок, решительно выпалил:
— Маршал Авереску!
Сторож мгновенно вытянулся в струнку и замер, ошалело хлопая глазами и приоткрыв рот. Старик повернулся и зашагал по дороге к выходу. Он был уже у самых ворот, когда Кива, придя в себя, восторженно, трепетно и благодарно прокричал ему вслед:
— Доброго вам здравия, господин адвокат!
Север считал себя не только великим юристом, но и великим стратегом, хотя — увы, не мог применить на деле свой талант полководца. То, что он сообщил Киве, было плодом его долгих раздумий в тиши кабинета, — заветная мечта.
Когда они возвращались, машину задержали на каком-то перекрестке. Снова шла немецкая моторизованная колонна. Петер выключил мотор и попросил позволения закурить. Стояли уже минут двадцать. Сзади выстроился целый хвост автомобилей.
— Не нравится мне это. Что-то много немецких колонн за последние дни, — Петер выдохнул дым в окно.
Старик, подозревавший Петера в симпатиях к левым, ответил в бравурном тоне и даже с каким-то наигранным смешком:
— Хе-хе! Запрыгала немчура, заметалась, как волк в клетке. Дали им, значит, жару…
Петер оцепенел от ужаса и затравленно посмотрел в зеркальце на старика. Тот ухмылялся в бороду. Петер не симпатизировал ни левым, ни правым, он боялся политики, а из слов старика вдруг понял, что назревают какие-то важные перемены, иначе не стал бы господин адвокат так откровенно высказываться о немцах. А раз уж он себе такое позволил, значит, ему известно что-то особенное, неизвестное никому. Но что мог знать старик? Ровным счетом ничего.
Как только Север переступил порог своего дома, на него повеяло теплом и уютом. Такое чувство всегда охватывало его при виде Влада. И Север, и Олимпия любили внука, любили каждый по-своему, так, как любили когда-то сына, но старик любил Влада, пожалуй, даже больше, чем Ливиу.
Как старик и предполагал, внук с бабушкой «сидели у шкафа». «Сидеть у шкафа» было их любимым занятием. Олимпия извлекала из ящика одну за другой безделушки и рассказывала, как и когда они появились в доме. Влад, сидя за столом, осторожно принимал их, разглядывал со всех сторон, хотя каждую знал наизусть, мог бы назвать с закрытыми глазами да и рассказать от начала до конца ее историю. Но ритуал есть ритуал! Олимпия во время этого священнодействия в который раз, волнуясь, возвращалась памятью в далекое прошлое, а Влад наслаждался возможностью прикоснуться к этому прошлому, ощутить его таинственный аромат, как осязал он сами предметы, причудливые и неожиданные.
Первой всегда шла брошь, ее подарил Олимпии к свадьбе старший дед, то есть отец Севера, брошь была сделана из шести золотых монет — наполеондоров — в виде олимпийской эмблемы. Потом шла маленькая шарманка, сиплая, почти безголосая, игравшая первые такты «Марсельезы». Шарманку привез из Парижа дядя Фабиу. Этот дядя Фабиу затерялся где-то в огромном мире, а где — Влад знать не знал и ведать не ведал, но дядино имя придавало шарманке особое очарование. Потом — депутатская трехцветная лента дедушки Севера, которую ему повязали на празднике в Алба Юлии 1 декабря 1918 года [3] 1 декабря 1918 года в Алба Юлии Народное собрание высказалось за объединение Трансильвании с Румынией.
. Потом — шелковистая рыжеватая прядка — первые волосы Ливиу. Потом — лакированная ярко-красная шкатулка с двумя пестрыми павлинами на крышке. В шкатулке хранились длинные белые перчатки с дырочками от моли, необыкновенно мягкие, с блестящими перламутровыми пуговками, переливающимися всеми цветами радуги — глаз не оторвать. Была еще сухая ветка кипариса, неизвестно откуда взявшаяся, похожая на руку гномика, согнутую в локте. Засохший апельсин, его привезли из Далмации двухгодовалому Ливиу, он его почему-то не съел, и апельсин превратился в кирпично-оранжевый шар, необычайно легкий; постучишь по нему пальцем, и он гулко отзовется. Потом шли два ящичка: один с разными открытками, другой с пуговицами: деревянными, металлическими, костяными, тряпичными, квадратными, круглыми, плоскими, выпуклыми, вогнутыми, всех цветов и оттенков, — из которых Влад составлял великолепные футбольные команды…
Читать дальше