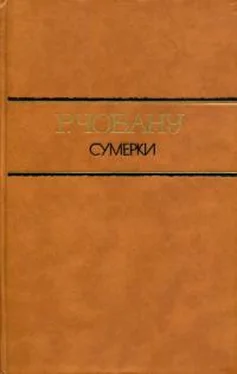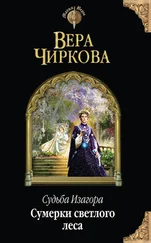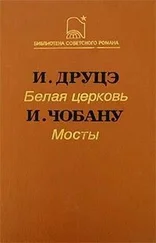— Идут всегда другие, а румыны стоят и ждут! И долго нам еще ждать?
Старик вздрогнул и смутился. Лицо говорящего показалось ему знакомым. Может быть, давний клиент? Разве всех упомнишь? Надо быть осторожнее; мало ли кто заговорит с тобой на улице. Он улыбнулся и ответил:
— Хе-хе… Конец, кажется, близок, и мы двинемся… Хе-хе…
Прошел последний танк. Старик молча приподнял шляпу и поспешил перейти улицу. В глубине души он остался доволен своим замысловатым ответом. Но не слишком ли много он себе позволил? Этот тип мог быть из гестапо; как рассказывают, одного из самых гнусных и зверских учреждений. Убедившись, что никто за ним не следует, Север сбавил шаг, приосанился и снисходительно отвечал на почтительные кивки прохожих. Три четверти здоровающихся были люди незнакомые, во всяком случае, он их не помнил, но принимал поклоны как должное. Слегка приподнимая шляпу, он не без гордости думал: «Я иду к Ливиу, и люди знают об этом». Мысль, что весь город знает, как он, Север Молдовану, три раза в неделю ходит на кладбище к сыну, почему-то доставляла ему наслаждение. Он воображал, что люди замечают каждый его шаг. Если он выходил на улицу с Владом, они должны были говорить: «Господин Север гуляет с внуком». Если в окне его кабинета ночью горел свет: «Господин адвокат все еще работает». Если окна светились во всем доме: «Господа Молдовану принимают гостей». Сейчас они отмечали, что он идет на кладбище. Если он не шел, а ехал в машине, то и это не должно было ускользнуть от их внимания: видно было, как машина стояла у дома; видно было, как он в нее садился; видно было, как он останавливался у церкви, у цветочного магазина, как раскланивался с прохожими. Нет, все знали, что он едет на кладбище, не могли не знать. А если ему хотелось поразмяться и он шел пешком, все видели: вот он заходит в церковь купить свечи, вот несет их в руке, вот заглядывает в цветочный магазин, где его ожидают розы или гвоздики, ровно четыре штуки. Могила Ливиу и без того утопала в цветах, но как бы он, господин Север Молдовану, выглядел в глазах людей, если бы шел на кладбище без цветов? Вот он идет, держит в руке цветы, держит в руке свечи… и упрекнуть его не в чем…
Старик миновал больницы и вышел на пустырь. Все, все было забыто — и случайная встреча на улице, и ссора с Олимпией. Старик шагал не торопясь, постукивая тростью о камни. Он снял шляпу, и легкий ветерок развевал его пышные седые волосы. На душе было приятно и легко.
Ясный августовский день шел на убыль. На пустыре жгли мусор. Белесый едкий дым смешивался с терпким горьковатым запахом бурьяна. Показались большие черные железные ворота кладбища с краткой надписью: «Кладбище героев». Старик подходил все ближе и ближе, и душу заполняла сладкая печаль. Протекли долгие месяцы, прежде чем боль притупилась и стала сладкой печалью: сожалением о несбывшейся надежде, убитой раньше, чем она успела разочаровать.
В 1941 году Ливиу мобилизовали и стараниями Севера определили в чине сержанта краткосрочной службы шофером в эвакогоспиталь. А спустя два месяца после вступления Румынии в войну по приказу этого безмозглого Антонеску эвакогоспиталь разбомбили. И, лелеемая многие годы, мечта Севера о собственной юридической фирме рухнула! Ах, какая это могла быть фирма с юрисконсультами по всем вопросам: уголовным, гражданским, административным, частным. Ливиу начал бы как компаньон Севера, а после стал бы достойным продолжателем его дела и главой фирмы… Но все оборвалось так нелепо… Из России привезли мертвого Ливиу… Нет, об этом он не в силах вспоминать! Тоска душит! Будь они все прокляты — и Антонеску, и немцы, и их приспешники!..
Старик положил на могилу цветы, зажег свечи и молча постоял перед мраморным крестом, прижав к груди шляпу. Молиться он не мог. Всякий раз что-то мешало ему, хотя потом он всегда раскаивался. Не отрываясь смотрел он на фотографию сына. Вместо молитвы он прошептал: «Господи! Уготовь ему тихий уголок в своем зеленом раю, где не знал бы он ни скорби, ни слез!» Почувствовав, что на глаза наплывает туман, он торопливо закрестился, надел шляпу и быстро-быстро пошел прочь. И тут-то шагах в десяти позади него, как из-под земли, возник высокий, тощий, плешивый смотритель кладбища Кива.
Кива был свой человек: когда-то старик спас его от фронта, пристроив сюда этаким современным Хароном. Север достал из кармана заранее приготовленный конверт с деньгами: Кива ухаживал за могилой Ливиу, и старик аккуратно платил ему каждую неделю.
Читать дальше