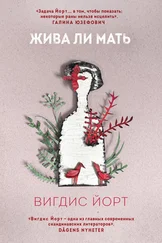Она не знала, что на самом деле случилось, писала Астрид. Она поняла, что доказать мои слова нельзя, как и доказать, что отец, утверждая, будто ничего не призошло, говорит правду. Для нее эта точка зрения была единственно возможной.
Однажды она уже сказала это мне по телефону, но повторит еще раз: она НИКОГДА (большими буквами) никому не говорила, будто я вру, или будто того, о чем я рассказывала, на самом деле не происходило. Тем не менее доказательств у нее нет. Прими она мою сторону, это означало бы, что она обвиняет папу в жутком преступлении без веских доказательств. А так поступить она не могла.
Она любит и меня, и папу, поэтому хотела сохранить отношения с нами обоими, а желание общаться и с отцом, и с сестрой – это не то же самое, что «погнаться за двумя зайцами».
Астрид была права.
Она писала, что мать с отцом приняли ее точку зрения и радовались, что мы с ней общаемся.
«Очень грустно, – писала Астрид, – если из-за этого отношения между нашими детьми тоже будут испорчены, если внуки перестанут видеться с бабушкой, а я отвернусь от матери». Именно поэтому Астрид много раз просила дать ей возможность поговорить со мной. После смерти папы она неоднократно изъявляла желание встретиться и все обсудить. Она чувствует, что сейчас раскол в семье серьезный и что мы можем навсегда отдалиться друг от друга. Когда не видишь собеседника, не слышишь его голоса и не улавливаешь жестов, общение оскудевает, поэтому для нее важно встречаться со мной лично. Когда люди не смотрят друг на друга, они отдаляются и со временем бывают склонны видеть друг друга в худшем свете. Возможно, она так боится, потому что стала свидетелем того, как испортились отношения между мной и родителями. Мысль о том, что мы, брат, и сестры, и наши дети, разойдемся в разные стороны, ей невыносима. У каждого из нас есть плохие и хорошие качества, а объективно оценить человека намного проще, когда видишь его.
Отвечать я не стала. Все это я уже слышала прежде, и никакого нового ответа у меня не было, а даже если бы он и был, Астрид все равно отказывалась его слышать, и я говорила сама с собой.
Случившееся в прошлом – ужасная травма для меня, и смерть отца, судя по всему, воскресила во мне воспоминания. Так она написала. Случившееся? Травма? Но она же сама решила, что случившееся – плод моего воображения. Смерть отца воскресила воспоминания? О чем, интересно, если вспомнить мне нечего? Астрид то и дело говорила о моей боли, что она понимает, как мне больно, но если я не пережила всего этого, если все выдумала, то откуда взяться боли?
Она писала, ей нужны доказательства.
Какие? Тесты ДНК? Видеозаписи? Астрид занимается защитой прав человека, она каждый день выслушивает истории, доказательств которых не существует, так чего же она добивается?
Мне что, надо было звонить ей после каждого сеанса у психотерапевта, после каждого ночного кошмара, когда я вспоминала что-то новое, каждый раз, когда прошлое давало о себе знать, во сне и средь бела дня, когда прошлое резало и кололо, каждый раз, когда вставал на место кусочек пазла из детства, юности и взрослой жизни? Странное поведение отца, странное поведение матери в совершенно будничных ситуациях, когда речь заходила о сексе, или насилии, или семейных тайнах? Мне что, надо было звонить Астрид и расписывать все в подробностях? И каково бы ей было тогда? Когда двадцать три года назад история выплыла наружу, я решила отстраниться, позаботиться о себе, обратиться к помощи специалиста. Мне что, следовало позвонить Астрид и выложить все физиологические подробности моей недоверчивой сестре, которая любила отца и мать и у которой имелись на это все основания, у которой были чудесные отношения с нашими родителями и которая добивалась гармонии во взаимоотношениях с родственниками? Мне следовало позвонить ей и показать мои кровоточащие раны, мою оголенную плоть, все то стыдное, интимное и болезненное, о чем я способна была говорить лишь с психоаналитиком, за закрытой дверью? Я должна была болтать с Астрид о том, в чем признавалась только врачу, не подругам, не мужчинам, не детям, потому что испытывала физическую боль, потому что не хотела, чтобы мои близкие знали обо мне такое?
Вот поэтому, Астрид.
Она писала, что отец от всего отпирался, будто приводила веский аргумент, словно полагала, будто в один прекрасный день отец способен был просто открыть рот и признаться в чем-то подобном. Она писала, что много об этом думала, не замалчивала, а обсуждала. Но с кем? Со специалистами? Со Службой помощи жертвам инцеста? Нет, со своим мужем и с Осой, теми, кто поддерживал ее точку зрения, и с матерью, чья жизнь казалась бы глупой и стыдной, признай она мою правоту. И как тогда выглядела их беседа?
Читать дальше
![Вигдис Йорт Наследство [litres] обложка книги](/books/398675/vigdis-jort-nasledstvo-litres-cover.webp)



![Маргарита Блинова - Война за ведьмино наследство [litres]](/books/392823/margarita-blinova-vojna-za-vedmino-nasledstvo-li-thumb.webp)
![Вигдис Йорт - Песня учителя [litres]](/books/393827/vigdis-jort-pesnya-uchitelya-litres-thumb.webp)
![Елена Счастная - Жена в наследство. Книга 1 [litres]](/books/412324/elena-schastnaya-zhena-v-nasledstvo-kniga-1-litres-thumb.webp)
![Елена Арсеньева - Наследство колдуна [litres]](/books/427623/elena-arseneva-nasledstvo-kolduna-litres-thumb.webp)
![Ольга Ярошинская - Ведьма по наследству [litres]](/books/429176/olga-yaroshinskaya-vedma-po-nasledstvu-litres-thumb.webp)
![Екатерина Соболь - Опасное наследство [litres]](/books/438707/ekaterina-sobol-opasnoe-nasledstvo-litres-thumb.webp)