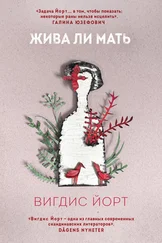На Пер Гюнте был белый костюм. Пер пил шампанское и пьянел, Пер не знал меры, Пер задирался, и задирал нос, и перегибал палку, никак не мог насытиться женскими ласками, властью и чувственными наслаждениями, Пер рвался вперед и вверх, метил в императоры, смотрел не на препятствия, а на возможности. Пер внушал себе, что для него все возможно, что ему все по плечу – сын своего отца, тот, кто жаждал богатства и добился его, а когда понадобилось, сумел воспользоваться богатством себе на пользу. Когда его мать, Осе, умирала, когда Осе на сцене лежала в современной больничной палате, с проводами от электрокардиографа, прямо как мой отец сейчас, только он вдобавок еще подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сейчас, в этот самый момент, – я заплакала. Отец лежал в похожей палате, совсем как Осе, прямо сейчас, если, конечно, не умер, но тогда Астрид позвонила бы, и я бы увидела, что она звонит, ведь я то и дело проверяла телефон. Если бы отец умер, Астрид позвонила бы, я бы вышла из зала и перезвонила. Значит, отец пока жив, подключен к такому же аппарату, как лежащая на сцене Осе, и я заплакала и горько проплакала всю сцену ее смерти.
В последней сцене, когда Пер возвращается к Сольвейг и ждет, что та, как и полагается, примет его, Сольвейг уходит, а напоследок произносит слова Норы [3] Героиня другой пьесы Ибсена – «Кукольный дом».
, слова современной женщины. Она уходит, она покидает Пера, совершает поступок, непосильный для матери, тот, на который мать не способна, зависимая и слабая, женщина, ни разу в жизни не оплатившая счет. Сольвейг покинула Пера, и когда я смотрела на Пера, потерянного и усталого, я вдруг поняла: как же нелегко ему, моему отцу, жилось. При мысли об отце, о его жизни меня захлестнула волна сочувствия, бедный, бедный отец, в молодости натворивший глупостей, которые не поправишь, которые не забудешь, он и сам не знал, как это вынести, как жить с этим. Силился забыть и вытеснить, и долго казалось, будто тот, с кем он это сделал, забыл обо всем, и тот, кто, возможно, понял, что было сделано и с кем, тоже забыл, однако забытое могло в любой момент, когда угодно, всплыть на поверхность, вернуться, да что же это? Наверное, ему приходилось непросто – жить в страхе, жить с опаской. Двух своих старших детей отец избегал и боялся, потому что они напоминали ему о его собственном преступлении, «he could not stand them because of what he had done to them» [4] Они были ему невыносимы из-за того, что он с ними сделал (англ.) .
.
Пер не понимал, что зашел чересчур далеко. И перегибая палку, Пер не понимал этого, не видел берегов и переступил черту, но даже и заметь он эту черту, все равно наверняка переступил бы ее, ради забавы, чтобы пощекотать себе нервы, а еще потому, что думал, будто это сойдет ему с рук, верил, будто его простят, не понимал, как скажутся его поступки на других людях, считал, что у него все наладится, но на этот раз ничего не наладилось.
«Слишком поздно, Пер», – сказала Сольвейг, и в этот миг мне стало легче. «Слишком поздно, Пер», – сказала Сольвейг. Порой бывает слишком поздно. Порой восстановить ничего нельзя, порой что-то навсегда разрушено.
Вернувшись от Клары, из Копенгагена, я обнаружила в почтовом ящике загадочную открытку от моего женатого любовника. Ему хотелось меня согреть. Я ему не ответила, но мне стало теплее. Всю осень, а потом целую зиму и весь год, и следующий год тоже я получала загадочные открытки и послания от моего бывшего женатого любовника. Я не отвечала, но они меня согревали. «Слон или клон?» – писал он. «Слоновий клон», – хотелось мне написать в ответ, но я не отвечала, я с головой окунулась в психоанализ, который сам по себе ничего не доказывал, но мог что-то изменить. Но одновременно я с головой окунулась в психоаналитика, именно в этого мужчину, беззаветно и безоглядно, как бывает, когда влюбляешься, хотя уже была влюблена в моего женатого любовника, пусть даже он и оставался для меня недостижимым.
Мне приснилась война, и что мы с каким-то другим солдатом стоим на опушке леса, возле пустоши, которую нам нужно захватить. Это было опасно, враг находился близко и наверняка заметил бы нас. Была ночь, и действовать нужно было до рассвета, то есть уже сейчас. Я оглядела пустошь, дрожа от страха и уговаривая себя, а другой солдат уселся под деревом. Я посмотрела на часы, пора было действовать, я повернулась к солдату, тот продолжал неподвижно сидеть. «С таким в разведку не пойдешь», – подумала я и рванулась вперед.
Читать дальше
![Вигдис Йорт Наследство [litres] обложка книги](/books/398675/vigdis-jort-nasledstvo-litres-cover.webp)



![Маргарита Блинова - Война за ведьмино наследство [litres]](/books/392823/margarita-blinova-vojna-za-vedmino-nasledstvo-li-thumb.webp)
![Вигдис Йорт - Песня учителя [litres]](/books/393827/vigdis-jort-pesnya-uchitelya-litres-thumb.webp)
![Елена Счастная - Жена в наследство. Книга 1 [litres]](/books/412324/elena-schastnaya-zhena-v-nasledstvo-kniga-1-litres-thumb.webp)
![Елена Арсеньева - Наследство колдуна [litres]](/books/427623/elena-arseneva-nasledstvo-kolduna-litres-thumb.webp)
![Ольга Ярошинская - Ведьма по наследству [litres]](/books/429176/olga-yaroshinskaya-vedma-po-nasledstvu-litres-thumb.webp)
![Екатерина Соболь - Опасное наследство [litres]](/books/438707/ekaterina-sobol-opasnoe-nasledstvo-litres-thumb.webp)