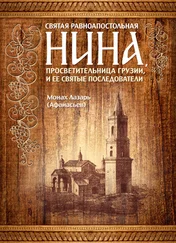— Ты… ты хочешь порвать со мной!
Лицо искажается еще больше, покрывается красными прожилками, первый всхлип, похожий на приглушенное кудахтанье, глаза становятся дурацкими, круглыми, и груда мяса валится на постель, сотрясаемая неуемными рыданиями… Лапутж бесстрастно наблюдал за этой сценой, которую заранее предвидел, затем, решив, что пора кончать, встал.
— Черт знает что такое! — загремел он, большими шагами меряя комнату. — Теперь она ревет белугой. Да прекратишь ты это или нет? Вовсе я не собираюсь рвать с тобой, и если бы твой рогоносец муженек продолжал торчать у своих черномазых, я бы тебе слова не сказал. Но ведь он целый год будет здесь, а это в корне меняет дело. Ты можешь начать все сначала, попробовать примириться с ним. Что поделаешь, каким человек родился, таким он и умрет: у меня есть совесть. Я прежде всего забочусь о тебе и должен подумать, имею ли я право втягивать тебя в ту жизнь, которая мне предстоит.
— А что тебе предстоит?
Любопытство на миг приостановило поток ее слез. Она подняла на него изумленный взгляд.
— Я не могу тебе этого сказать, но поверь, если бы ты могла помириться с мужем, это было бы лучше для всех… и потом это ничего бы не изменило, — добавил он, неожиданно снова став нежным и опускаясь подле нее на кровать.
Сцена эта продолжалась более часа — взаимные оскорбления вперемежку с потоками слез. Затем Мадлен вернулась домой с покрасневшими глазами, постаревшая на десять лет. Всю ночь она размышляла и к утру пришла к выводу, что не будет особого вреда, если она попытается последовать совету Лапутжа. В последующие дни она даже стала искренне желать возобновления супружеской жизни и несколько раз с подлинной нежностью вспоминала об Анри. Увидев его в церкви, она ощутила волнение, показавшееся ей сладостным. Она причастилась и стала молиться о том, чтобы он согласился помириться и принял предложение, которое она еще утром передала через Жана. Она долго раздумывала о своих ошибках и недостатках, приняла кое-какие решения. Никогда еще она не подвергала себя такому самоанализу. Когда обедня кончилась, Мадлен хотела разыскать мужа и поговорить с ним. Но слишком много было вокруг народа. Могли подумать, что она делает это для видимости. Гордость Лаказов заставила ее подавить в себе нежность, кстати весьма мимолетную, но ей приятно было хотя бы уже то, что она эту нежность испытала.
В отличном расположении духа вернулась она домой со своими родителями и сестрой. Даже встреча с доктором Лапутжем, который в тот день завтракал у них, не расстроила ее. В ответ на его вопросительный взгляд она не без злорадства дала понять, что дела ее складываются отлично.
Кроме доктора на завтрак был приглашен еще аббат Ведрин. Это был замшелый человечек неопределенного возраста. Дряблые серые веки скрывали глазки, похожие на черную смородину. Большой рот, казалось, все время сосал конфету. Когда Лаказы подъехали к дому, он уже стоял на террасе и о чем-то горячо спорил с Лапутжем.
— Послушайте, дорогой мой Лаказ, — воскликнул он при виде их, — хватит стареть, а то скоро скажут, что у вас три дочери и пет жены!
Комплимент был несколько преувеличенный, но женщины и в самом деле походили на сестер. Все три высокие, сильные, с величественной, но несколько усталой походкой и жесткими, в чем-то лошадиными лицами. Они отличались друг от друга скорее темпераментом, чем внешне. Мать была краснощекая, здоровая женщина, Мадлен — белотелая, рыхлая, склонная к полноте, Катрин — тонкая, матово-бледная, как все неврастенички. Самая худощавая из всех троих, Катрин принадлежала к числу тех женщин, которым можно дать тридцать задолго до этого возраста и много времени спустя. Сейчас не сразу можно было понять, что она на десять лет моложе Мадлен, зато через десять лет Катрин будут принимать за ее дочь. Одевалась она с большим вкусом, но отнюдь не старалась казаться моложе. Она носила короткую стрижку и не меняла естественного цвета волос, которые были какими-то тускло-черными, тогда как сестра красилась в яркую блондинку, а мать придавала своим сединам голубоватый отлив.
После того как Лаказы поздоровались с гостями, наступила неловкая пауза; обычно в подобных случаях молчание нарушали Мадлен с Лапутжем — они принимались обмениваться шуточками или заводили разговор на какую-нибудь избитую тему. Но сегодня они молчали. Смущенный этой паузой, Бернар Лаказ вытащил из-под мышки «Фигаро», развернул газету и, не обращаясь ни к кому в частности, заметил:
Читать дальше





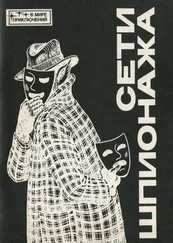

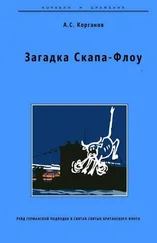

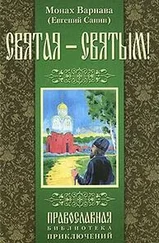
![Робер Мерль - БСФ. Том 17. Робер Мерль [«Разумное животное»]](/books/424176/rober-merl-bsf-tom-17-rober-merl-razumnoe-zhi-thumb.webp)