Гретель еще спала. Он под одеялами положил руку ей на живот. Еще один мозг, где уместится мир. Еще один носитель этого мира. Как заболевание, этот мир передавался от одного к другому, и каждый страдал в одиночку.
И все же – крохотный сюрприз, лови, пока не улетел: одиночество на деле не хуже обычного. Даже сейчас, когда смерть кружила по нему с каждым ударом сердца, оно не становилось хуже. В безопасности утробы он был один. Ужас, что в нем сейчас, был и тогда. Ужас, неотделимый от первобытной соли, зеленого света сквозь тростники. Ужас и сила жизни неотделимы. В безопасности вместе со своими женой и сыном он раньше был один, натягивал на голову одеяла каждого дня, чтоб отгородиться от ужаса.
Тут же, без якоря и затерянный в этом времени с Гретель, он был наедине с ужасом, но не более один, чем будущая личность у нее в утробе. Восход, попался. Снова ночь. Здравствуй, ночь. Не темнее обычного. Не темнее, чем до меня. Не темнее, чем для тебя в ее утробе перед твоим началом. Необходим миллион нетей, чтоб создалось одно да. Кто сказал это? Я это сказал.
Он выбрался из постели, постоял голый, потянулся, посмотрел на еще-не-совсем-утренний свет в окне, прислушался, как поют птицы. Я обещал ей сказать, подумал он.
Он обещал мне сказать, подумала Гретель, не открывая глаз.
Он осторожно раскрыл ее, поцеловал ей живот. Я ей сказал, подумал он.
Он сказал, подумала Гретель. Что? С закрытыми глазами она слышала Яхин-Боаза в ванной, слышала, как он одевается, варит кофе, выходит из дому. По-моему, он не купил мяса, подумала она. По-моему, он не взял с собой мясо.
Лето, думал Яхин-Боаз. Проходят времена года, воздух у меня на лице мягок, день, что настает, будет летним днем. Это лучше моей себялюбивой ярости в лечебнице. Нет никакого волшебства, никто и ничто не поможет мне. Бесстрастный перед зарей, я должен совершить это один, с ничего, из ничего. В руке он нес свернутую карту карт. Через дорогу стоял лев. Яхин-Боаз вытащил из кармана конверт, адресованный Гретель, внутри – чек на ее имя, на все его сбережения. Он опустил его в почтовый ящик возле телефонной будки. В той еще горел свет. Каштан, влажный от утра, стоял весь в листве. Запах льва недвижно висел в воздухе.
– Мяса нет, – сказал льву Яхин-Боаз. Он повернулся и пошел к реке. Лев двинулся за ним. Как и в первый день, над головой пролетела ворона. Яхин-Боаз дошел до моста, свернул направо, спустился по ступенькам на ту часть набережной, что ниже уровня улицы. Слева были парапет и река, справа – подпорная стенка. Позади Яхин-Боаза лестница на мост, перед ним – перила по краю каменной кладки и ступени к воде. Лев шел за ним. Яхин-Боаз повернулся к нему лицом.
Никакого волшебства. Всамделишность невыносима, неизбежна. Свирепая смерть. Свирепая жизнь. Быть за всеми мыслимыми пределами. Быть беспредельным, ужасающим, свирепым посредником между смертью и жизнью, безразличным к обоим, презирающим смертные различья. Нахмуренные брови. Янтарные глаза, светящиеся и бездонные. Раскрытые челюсти, горячее дыхание, розовый шершавый язык и белые зубы конца света. Яхин-Боаз чуял льва, видел, как тот дышит, как ветерок колышет его гриву, как мускулы перекатываются под смуглой шкурой. Необъятный, лев властвовал над пространством и временем. Отчетливый, впереди самого воздуха вокруг себя. Непосредственный. Сейчас. Больше ничего.
– Лев, – произнес Яхин-Боаз. – Ты ожидал меня перед рассветами. Ты ходил со мной, ел мое мясо. Ты был внимателен и равнодушен. Ты нападал на меня и отворачивался. Ты был зрим и незрим. Вот мы здесь. Теперь есть только то время, что есть… Жизнь, – сказал Яхин-Боаз. Шагнул влево. – Смерть, – сказал он. Шагнул назад вправо. – Жизнь, – произнес он, спокойно посмотрел на льва, пожал плечами. – Карт нет, – сказал Яхин-Боаз. Развернул карту, которую держал, свернул ее иначе, чтобы сплющилась, чиркнул спичкой, поджег ее. Затанцевали язычки пламени. Он выронил карту, когда пламя поглотило ее, океаны с континентами потемнели, корчась в огне. – Карт нет, – повторил Яхин-Боаз.
Он вспомнил Боаз-Яхина младенцем, как тот смеялся при купании в раковине. Вспомнил, как пела жена. Он вспомнил, каким был живот Гретель под его губами, вспомнил, как Боаз-Яхин, еще мальчик, стоит у лавки и заглядывает в окно, его маленькое таинственное лицо, затененное навесом. Вспомнил пальмы и фонтан на площади.
– Назад пути нет, – сказал Яхин-Боаз.
Как раньше давно, в уме у него возникли слова, большие, вселяющие веру и почтение, словно изречение бога заглавными буквами:
Читать дальше
![Рассел Хобан Лев Боаз-Яхинов и Яхин-Боазов. Кляйнцайт [litres] обложка книги](/books/398130/rassel-hoban-lev-boaz-yahinov-i-yahin-cover.webp)

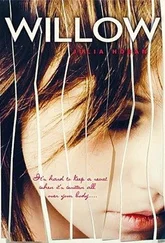





![Александр Левитас - Убедили, беру! [178 проверенных приемов продаж] [litres]](/books/389819/aleksandr-levitas-ubedili-beru-178-proverennyh-thumb.webp)
![Карен Рассел - Приют святой Люсии для девочек, воспитанных волками [сборник litres]](/books/396388/karen-rassel-priyut-svyatoj-lyusii-dlya-devochek-vospi-thumb.webp)
![Гюнтер Леви - Преступники [Мир убийц времен Холокоста] [litres]](/books/408494/gyunter-levi-prestupniki-mir-ubijc-vremen-holokost-thumb.webp)
