– Беда со снабжением, – уютно произнес письмописец. – Полагаю, к пастушьему пирогу или мясу в тесте приспособиться он не сумел? Тут, на земле, мясо тощевато.
– Не знаю, – ответил Яхин-Боаз. – Возможно, он вообще способен обходиться без еды. Он вполне всамделишный, но не в обычном смысле.
– Вполне, – чопорно произнес письмописец, как один герцог другому, кому такое объяснять нет нужды.
Яхин-Боаз умолк. Прямо сейчас видеть льва ему не хотелось, и он стал думать о других людях, которые могут его видеть. Вот уже один такой хочет льва покормить. У Яхин-Боаза заболела голова.
– Почему они тоже видят его, другие? – спросил он скорее у себя самого, но вслух.
– Тут уж извините, старина, – ответил письмо-писец. – Но здесь такого следовало ожидать. Почему, в конце концов, они сунули нас в дурдом? Все нормальные люди согласны с тем, что кое-чему не следует позволять быть возможным, и они управляют своим восприятием соответствующе. Очень сильны – эти нормальные люди. Мы не так сильны, как они. То, чему не позволено быть возможным, прыгает на нас, звери и бесы, потому что мы не знаем, как их не впускать… Другие здесь могут прыгать на нас, видеть мои лица и вашего льва, даже если вам захочется обниматься с ним, как с плюшевым мишкой. Если бы ваш лев был невозможен, вы были бы счастливы делиться этой невозможностью. Но люди становятся такими собственниками, когда дело доходит до возможностей, пусть даже опасных. Жертвы превращаются в хозяев. Возможно, вам бы стоило немного повзрослеть. Быть может, однажды вам даже придется отпустить вашего льва.
– А ваши лица? – спросил Яхин-Боаз.
– Они накапливаются быстрее, чем их увозят, – самодовольно ответил письмописец. – Всегда будут еще.
– Прелестно, – произнес человек, только что вернувшийся к своей койке на другой стороне. Хотя руки его оставались пусты, а сам он был в халате и пижаме, он казался одетым щеголевато и со вкусом, а в руках держал туго свернутый зонтик и почтенную газету. – Прелестно, – продолжал он. – Прелестные жена, дети, дом, погода, центральное отопление, карьера, сад, обувные шнурки, пуговицы и стоматология. Все современные удобства – или ближайшее к ним из предлагаемого. Прелестные банковские уроки, музыкальные счета, прелестные мили на галлон. Прелестный экзаменационный простой уровень, усложненный уровень, ровня уровня, уровня ров. Прелестный ровный взгляд у нее, каким она проникает сквозь все, кроме.
– Кроме чего? – спросил Яхин-Боаз.
– Это я и имею в виду, – сказал туго свернутый. – Кроместь всего вокруг. Домой я больше не хожу. Прощай, желтая птичка. В том-то и муть, дорогуша.
– Суть, – сказал Яхин-Боаз.
– Дай мне суть, и я найду в ней муть, – произнес туго свернутый. – Вы сейчас не с квадратными разговариваете, любезный. Не пытайтесь проскользить мимо на кроссвордах и девяностодевятилетней аренде. Пробелы все равно больше здешних зиккуратов, и карабкаться еще ох как высоко. Глубже колодца.
– Круглее колеса? – произнес Яхин-Боаз.
– Забегаете вперед, милашка, – сказал туго свернутый. – Пусть само происходит.
– Не будьте таким снобом, – сказал Яхин-Боаз.
– Кто бы говорил, – сказал туго свернутый. – Он с его львами, дорожными чеками и фотоаппаратами. Ожирение – мать расширения. Сучка вовремя мое побрила. Хоть разберите чертовы замки да отправьте домой по камешку, мне-то что. Отвалите вы со своим львом оба. Туристы.
– И совсем не нужно говорить таким тоном, – заметил Яхин-Боаз.
Туго свернутый заплакал. Стоя на койке на коленях, он нагнулся вперед, погребя голову в руках, выставив зад.
– Я не нарочно, – произнес он. – Дайте мне погладить льва. Он каждый день может есть мой ужин.
Яхин-Боаз отвернулся, лег на спину, заложив руки за голову, и уставился в потолок, пытаясь отыскать безмолвие и уединение в пространстве над собой, что шириной было якобы с его койку, высотой с палату – и его личным поместьем. Солнечный свет сказал: как только начнешь сомневаться, все потеряешь. Начинай уже.
– Нет, – сказал Яхин-Боаз занавескам. Пропадешь, сказало красное, сказали желто-синие цветы. Мы пребудем. Многие приходили сюда и уходили, сказал запах стряпни. Всех разгромили.
Яхин-Боаз осознал, что к его койке прибыл некто со стопами врача психиатрической лечебницы. Раньше он иногда слышал часы, чьи тик-таки становились словами. Когда заговорил врач, его слова превращались в тиктаки, если только Яхин-Боаз как следует не вслушивался.
– Как тик-так у нас? – спрашивал врач. – Тик-так?
Читать дальше
![Рассел Хобан Лев Боаз-Яхинов и Яхин-Боазов. Кляйнцайт [litres] обложка книги](/books/398130/rassel-hoban-lev-boaz-yahinov-i-yahin-cover.webp)

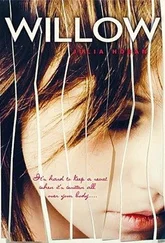





![Александр Левитас - Убедили, беру! [178 проверенных приемов продаж] [litres]](/books/389819/aleksandr-levitas-ubedili-beru-178-proverennyh-thumb.webp)
![Карен Рассел - Приют святой Люсии для девочек, воспитанных волками [сборник litres]](/books/396388/karen-rassel-priyut-svyatoj-lyusii-dlya-devochek-vospi-thumb.webp)
![Гюнтер Леви - Преступники [Мир убийц времен Холокоста] [litres]](/books/408494/gyunter-levi-prestupniki-mir-ubijc-vremen-holokost-thumb.webp)
