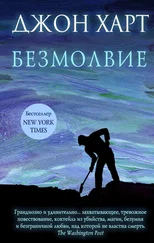После несчастного случая между Эрнстом и Адриен возникла еще большая доверительность. Они стряхнули с себя первое оцепенение страха и понемногу воспрянули духом, они повеселели, перебрасываются шутками, а я все ожидаю прихода неминуемого страха, когда неподвластная воле дрожь охватит все мое существо. Откуда эта уверенность? Опять детская игра с тенью. Вот причина моей ненормальной, заоблачной патетики, словно я восстал из тяжкого недуга, словно все телесное вокруг утратило свою твердость и прочность; лишь в одном моя крепость и сила — мне дано жить дальше. Все остальное несущественно, отделено стеклянной перегородкой, я твердо знаю, что Адриен и Эрнст любят друг друга, хотя им самим это пока неизвестно. Несчастный случай со мной сблизил их. Адриен — прелестная женщина, мне бы хотелось быть рядом с нею долго, возможно всегда. Но ее судьба — быть с Эрнстом, ей требуется личность, и жизнь свою она никогда не свяжет с человеком, подобным мне, обреченным вечно балансировать на грани нормального и ненормального, хотя сейчас мне удалось излечиться — надолго ли? — от навязчивой идеи и образ пустынной, выжженной беспощадным полуденным солнцем площади не в силах вызвать во мне прежних пугающих эмоций. Я откажусь от свидания с сестрой Марты, я не вправе заставлять других людей делить груз моих проблем, надо послать ей открытку, как можно скорее, если получится, то из гостиницы у конечной остановки горной дороги. Я должен остаться один. Теперь я еще долго смогу протянуть, не копаясь в себе. Отныне мне с поразительной четкостью стала ясна и оборотная сторона моей изоляции. Все, что когда-то пропустил, я как наяву пережил в своем воображении. Каждый мой шаг обретает сейчас глубочайший смысл, даже детские игры. Я знаю их подлинную ценность, я постигаю величие и красоту любви между мужчиной и женщиной. Постижение жизни ценой отказа от нее. Для Эрнста и Адриен любовь — лишь болезненное воспоминание. Но вместе они, возможно, достигнут большего. Я чувствую, как обретаю внутреннее равновесие, как гармонично вписываюсь в окружающий меня мир. Теперь мне дано больше понять и принять. Я знаю, так будет не всегда. Снова вернутся площади; куда бы меня ни занесло, везде я вспомню их голые пространства, но после того, как моя нога однажды поколебалась, мне уже не пройти еще раз через далекое потрясение детства.
Мы долго идем по Шиниге-Платте. Опускается вечер. Страха все нет, и я не дрожу. Над нами в поисках ночлега среди низкорослых зарослей пролетает стайка зябликов. Птиц много, и я, привлеченный их внезапным появлением, пытаюсь определить, сколько же их. Однако не могу сосредоточиться и замираю, глядя на далекие горы. Чуть поодаль, на покатом травянистом склоне, сидят Адриен и Эрнст. Я один среди кустов. Передо мной возвышается освещенный с запада остроконечный пик Финстераархорна. Вот на его белом треугольнике, обращенном к солнцу, начинают медленно разгораться закатные краски. И другие вершины Альп уже робко окрашиваются в бледно-розовые тона, среди них Финстераархорн единственный, кому заходящее солнце щедро отдает свою силу. Словно большие руки мягко опускают на горы нежное покрывало вечерней зари. Если бы я разбился, то никогда не увидел бы этого. Склоны гор вокруг нас опустели. Я знаю наверняка: сколько мне ни осталось пребывать на этой земле, я никогда теперь не сумею забыть окутанные закатной тишиной вершины Альп. Все замерли, чтобы как можно лучше запечатлеть это красочное зрелище. В природе не слышно ни звука, замолкли птицы, стихли человеческие голоса. Полнейшее безмолвие, лишь горы сияют в прохладной вышине. Мое «я», растворившись в сказочно прекрасной неподвижности заката, парит в его невидимых глазу волнах. На память приходит двадцать третий псалом — так вот в чем его смысл! Наверное, именно это и подразумевалось в словах «Ты приготовил предо мной трапезу»? Нет, не может быть, ведь тот, кто писал эти строки, никогда не переживал моего состояния, и Бах не мог этого видеть, тем не менее «Am Abend, da es kьhle war» [39] «В прохладный час вечерний» (нем.) .
передает то же настроение. Ему дано было провидеть единение жизни и смерти в умиротворяющей чистоте вечерних сумерек. Ему удалось постичь, что в смерти избавление и очищение. Потому-то никак не вяжется с этим мысль о воскресении из мертвых, она звучит недостойно и кощунственно. Но в «Страстях по Матфею» нет намека на такое воскресение.
Мы медленно продвигаемся вперед, оставляя по ту сторону долины завораживающее полыхание горных вершин, я еще и еще раз вполголоса напеваю ту строку. В этих словах концентрируется неуловимая чистота заполняющей душу радости, она остается и тогда, когда мы вступаем на равнину перед Обербергхорном, откуда в сумерках даже на большом удалении видна та самая «труба», в которую я сорвался. Узкий проход расширяется книзу, перед самым устьем белым треугольником застыли остроконечные каменные глыбы. Я спокойно прохожу по плоской равнине — а ведь это, в сущности, огромная площадь, но она не внушает мне страха, и Обербергхорн можно представить себе как башню, как перст божий, поднявшийся над площадью, огромный и устрашающий, — до меня приглушенно доносятся голоса Эрнста и Адриен, они идут впереди и кажутся двумя крохотными точками в безбрежном пространстве, все осталось позади: мои страхи, болезненные фантазии, зловещие предзнаменования, которыми я не мог поделиться ни с кем, потому что меня бы не поняли, ведь у каждого свои реальные проблемы, как, например, трудности семейной жизни, нередко приводящие к разводу, однако им незнаком страх площадей, навязчивые идеи, мечта о неосуществимой любви. Мне кажется, ко мне вернулось прежнее представление об этой жизни, пусть не всегда верное, я чувствую ее покалывание в кончиках пальцев, она — сон, желание, нематериальная субстанция, подобная красным одеждам, покрывающим вершины гор, такая же неуловимая, как музыка Шуберта, неосязаемая, но все же более естественная, чем сама реальность.
Читать дальше






![Роб Харт - Склад = The Warehouse [litres]](/books/396684/rob-hart-sklad-the-warehouse-litres-thumb.webp)