Принимая во внимание абсолютную литературную честность Юркуна, здесь сказывается разница и в поколении, и в характере. Ко времени вступления в литературу сверстников Юркуна прежний «новый гуманизм» успел деградировать и дальше развивался уже на уровне неоклассического или, напротив, эгофутуристического китча. К тому же, если в стилизованной прозе Кузмина его эстетизм, проявляющийся наглядно и красочно, наиболее доступен, то скрытная простота его бытовых рассказов несёт в себе уже «признак породы», очень личную и характерную чувственность описания, интонации, особый изыск деталей, придающий повествованию странное напряжение и некоторую двусмысленность, которая при желании задаёт из обыденных положений эстетическую шараду, исполненную своеобразного эротизма. В искусстве близких Кузмину людей эту манеру можно сопоставить с поздними, французского периода, работами Сомова. (Скрытая тщательностью и лёгкой иронией (или экстравагантностью) эмоциональная подоплёка иногда может быть и целой философией; однако это заслуга прежде всего англоязычной литературы и таких писателей, как Саки, Сомерсет Моэм и, ближе к нашему времени, Эдуард Родити.) Что же касается Юркуна, то здесь, видимо, только точность слов, экономия и неброское изящество могли послужить ему примером.
Собственная манера Юрия Юркуна открылась в прямоте, в том приподнятом, романтическом и чистом отношении к жизни, которое с годами и с опытом не лишило его речь простодушной серьёзности и восторга, смягчённых иронией. Его творчество в такой степени оправдывало себя чувством, а не идеей, что с самого начала не могло войти в колею решения каких-то (пусть даже самых изысканных личных) задач. Здесь, конечно же, речь может идти только о том чувстве, которому нечего скрывать. В. А. Милашевский точно, по-видимому, заметил, что артистизм и безошибочный вкус Юркуна, как и его личная философия, происходили прежде всего от природы, а уже потом от культуры. Можно сказать, что мастерством Юркуна стала его увлечённость, его языческая страсть к событиям жизни, выразившаяся и в запомнившемся многим его знакомым собирательстве репродукций, вырезок и мелочей, – столь не похожем на изображённое в романах Вагинова коллекционерство Кости Ротикова или Жулонбина, – и в его художестве, сделавшем из него самобытного графика. (Очень характерно, что вполне активно участвовавший в артистической жизни Юркун в 20‐е годы стал членом группы художников «Тринадцать», а не записным, по выражению Кузмина, «едоком Дома литераторов».) Эта увлечённость не убывала, и по мере того как жизнь вокруг становилась всё более тесной и невыносимой, в ней только усиливалась грустная мечтательность. У Юркуна грусть никогда не бывает мрачной и никогда не проистекает от самолюбия. Даже пафос трагической минуты не отменяет того делающегося подспудным упоения, которое позволяет искусству простым и невероятным образом чудесно преодолевать и обыденные условности, и саму смерть. Здесь за гротеском не скрывается скепсис, злорадство или болезненная чувственность. Это скорее «новое язычество» модерниста окрашивает юмор в чёрные тона, не чернее, впрочем, чем тот действительный статский советник из «Дурной компании», который перекрашивается в негра и становится похож на Нового Аполлона, изображённого Августом Балльером. Юмор Юркуна лишён особой двусмысленности, как и его персонажи, для которых разочарование – это только перемена картины, а потом новая мечта. Причём мечта, рождающая феерию и далёкая от эстетической игры. Невольная патетика и всего лишь напускная ирония, которые различимы в рассказах, «написанных на Кирочной улице», напоминают иногда уже не столько Кузмина, сколько новеллы Александра Грина (принадлежащие к тому же жанру, что и упомянутые вещи Юркуна, и до революции публиковавшиеся, кстати, в тех же журналах). Любители Грина разглядят и другие общие черты: это острота проникновения в законы фантазии, утверждение жизненности этих законов, фееричность и какая-то глубокая доброта рассказчика, окрашивающая повествование. Однако Юркун недолго подчинялся той то ли наивной, то ли защитной «желтизне», которая так испортила репутацию Грина. Его фантазия была не такой безобидной, чтобы искать выхода в создании воображаемых стран, и требовала прямого преображения реальности. Вместе с тем он, в отличие от многих своих сверстников, не считал, судя по всему, что это преображение ведёт не к новому качеству, а к новому виду литературы. На этом пути его проза развивается к тщательной проработке детали, к устранению случайностей и обострённому психологизму, который позволяет воображению сбываться. Это впечатление сновидения или гипноза, которое создают последние по времени из дошедших до нас рассказов, объясняет имеющееся упоминание о «сюрреальных» текстах Юркуна. К этому времени, впрочем, он уже не обладал официальной лицензией на занятия литературой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Василий Кондратьев Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] обложка книги](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-cover.webp)
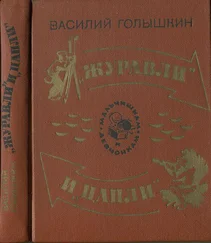

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)




![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)

