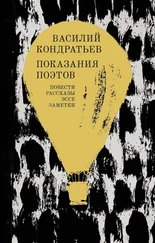Кузмин, сделавший Юрия Юркуна как бы героем своего творческого мира и ставший к тому же его энергичным литературным покровителем, поневоле обезоружил молодого писателя перед лицом отнюдь не радушной «литературной общественности», от которой сам всегда видел больше непонимания, чем признания того, что считал своими заслугами. О ходивших в те времена пересудах можно догадаться по беглым упоминаниям в разнокалиберных мемуарах, где Юркун предстаёт в лучшем случае как «литературный (?) спутник», а в худшем как миньон и посредственный протеже, призванный оттенять пикантно своеобразную репутацию своего мэтра. Призрак этого предубеждения пережил, как всё худшее, все революции и войны, и дошёл до нас более полно и убедительно, чем всё, что мы можем узнать о судьбе Юрия Юркуна. Всю свою жизнь он был исполнен почтения, благодарности, нежности к своему старшему другу, какими бы мучительно трудными и сложными ни бывали их взаимоотношения. За 23 года, которые они прожили рядом (вспоминаются слова О. Н. Гильдебрандт о том, что ход жизни «печально сблизил» их), Юркун рассчитался, возможно, и своей преждевременной гибелью. Их отношения, как личные, так и творческие, действительно менялись: даже влияние становилось взаимным уже по-другому, потому что молодость давала старости всё больше – и намного больше, чем просто саму себя. Эта молодость давала Кузмину новые силы и вдохновение, подсказывало новые темы; иногда намеренно, иногда случайно в его произведениях 20‐х годов мерцают образы, сюжеты и приёмы, очевидно навеянные не дошедшими до нас вещами Юркуна. К тому времени всё же их вкусы несколько разошлись. Для Юрия Юркуна в грёзах о новом мире, похожем на сказочную Америку, возник новый роман, тот, который стал романом его жизни и связан с Ольгой Гильдебрандт-Арбениной. Михаил Кузмин, воображая себе Берлин, мысленно грустил об этом идеальном «мужском рае». Однако не постепенно, а с самого начала пришло увлечение свежестью и чистотой таланта воспитанника, заставившее Кузмина сдержанно предуведомить читателей его первой книги, что «книга эта потому нова, что до сих пор такой не было».
Литературный дебют Юрия Юркуна был действительно ярким и необычным. Показательно, что для многих знакомых с его именем Юркун даже спустя много лет останется автором «Шведских перчаток». Прежде всего это была новая по своей сути книга, поэтому, может быть, обращённая к читателю новой, складывающейся с начала века, культуры, которая не требовала от автора обязательного «исполнения обязанностей» писателя. Она отвергала путь «молодых и симпатичных дарований», мелкими шажками почтительно следующих стезёю отечественной словесности, в ней не было и расчётливой скандальности, позёрства, означающего, по сути дела, всё ту же игру. Книга была необычна, как её лёгкий «польский акцент», лежащий на той же примерно параллели, что и «галльский дух». Необычной была личность рассказчика, заставившая некоторых читателей поверить в то, что перед ними и правда дневник, а Кузмина написать, что «счастливая случайность заставила совпасть недостатки автора… с качествами его героев». Впрочем, для того чтобы определить марку «Шведских перчаток», вышедших в свет в поворотном 1914 году, следовало, может быть, не оглядываться назад, а вообразить себе то будущее, когда один за другим в западную литературу послевоенного времени начали врываться «романы юности», такие как «Дьявол во плоти» Раймона Радиге. В новую – и более внимательную к молодости – эпоху их главным преимуществом стали считать точность и выразительность заявляющего о себе голоса. (Гертруда Стайн вообще считала, что молодую американскую богему 20‐х годов «создали» сперва «По эту сторону рая» Фицджеральда, а потом «Юные и дурные» Чарльза Генри Форда и Паркера Тайлера.) Может быть, такое предположение даёт право заподозрить, что в случае «Шведских перчаток» та «счастливая случайность», о которой писал Кузмин, и есть мера таланта семнадцатилетнего прозаика.
Недолгое время литературной активности (большая часть его опубликованной короткой прозы относится к предреволюционным военным годам) было для Юркуна уже своеобразным испытанием писательства, когда складывались та его «область» и тот собственный почерк, о которых он так стремительно заявил своей юношеской книгой. Кроме того, он становится одним из genius loci собраний петербургского артистического общества, «Бродячей собаки» и «Привала комедиантов», определяясь и в собственном положении на пёстрой литературной карте тех краёв. Он был по-разному дружен с Георгием Адамовичем, Юрием Дегеном, Леонидом Каннегисером, Бенедиктом Лившицем и Юрием Слёзкиным, с писателями, которые шли разными путями. Вслед за Кузминым, наиболее ярко выразившим на русском языке законы лёгкой прозы «французской» школы, Юркун разрабатывает лёгкий маневренный жанр «журнального» рассказа. Это скетчи, бытовые этюды, «темы», «случаи». Здесь прямое влияние старшего друга оказывается для него неплодотворным. В отличие от писателей, которых обычно так или иначе связывают с именем Кузмина, он остаётся совершенно чужд стилизации. Это и отсутствие модной «эстетической» манерности отдаляют Юркуна от той школы, к которой очень условно можно отнести таких несхожих прозаиков, как С. Ауслендер, Ю. Слёзкин и В. Мозалевский. Для него намного ценнее «простая» проза Кузмина. Но здесь неудачные попытки имитировать (как, например, в «Серебряном сердце») неподражаемую описательность Кузмина как будто бы ведут к новой, самостоятельной манере письма.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Василий Кондратьев Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] обложка книги](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-cover.webp)
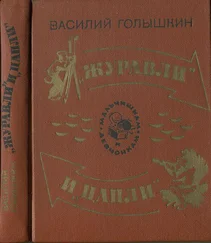

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)


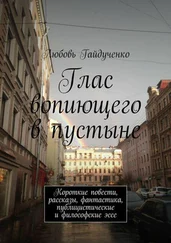
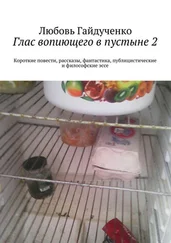
![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)