И потом, вообще какой смысл ехать с таким видом в местечко, которое знаешь наизусть, как будто всякий раз открываешь невесть что? Тут Костенька наверняка знал, чего открыть. Слова, всё было выстроено на словах или потому, что слов нет… Из-за этих слов Андрюша проживал в этом гнилом переулке, откуда иногда зимой приходилось ходить за водою на самую центральную площадь местечка, где зато не было ничего хорошего, кроме пляжа. Точнее сказать, в пляже совсем не было ничего такого. Зато дверь всякий раз закрывалась за собой в дом с необыкновенным спокойствием. Здесь ничего не имело значения . Здесь было нечего мечтать, нечем заняться, отсюда можно было выбираться только в случае такой катастрофы, которая время от времени вынуждала Андрюшу поехать побираться в город. Однако можно ли было вполне оценить этот комфорт, если бы он не связывался со всякими такими унижениями и с постоянным страхом за утренний кофе и gitanes blondes ? Андрюша принадлежал к тем, кто ценит комфорт больше жизни. Другие могли получать удовольствие от всяческих слов, отбрасывающих некоторый мягкий полусвет ( demimonde ) на их вполне, в общем, паскудные жизни. Жизнь: место в обществе, путешествия, дом, искусство . Однако за всем этим вырастали какие-то скучные и трудящиеся массы людей по меньшей мере. Все радости этих жизней существовали лишь на словах, за которые следовало терпеть и стараться. А что же нега? У Андрюши, как и у Жоржа, было лицо человека, который провёл лучшие часы своей жизни в ванне. Он просто физиологически не смог бы довольствоваться негою на словах: его негой был траур . Поскольку для высокого стиля жизни у него уже не было ни условий, да и воображения, честно сказать, тоже, он предпочитал быть изгнанником у ворот Рая. Ну, хотя кто об этом подозревал? В более молодые годы ему всё хотелось заниматься каким-нибудь искусством , потому что именно таким образом было удобнее всего сделать в своей жизни некоторый намёк (ну, или больше: кто знает?) на её высокую пробу. Теперь он зато овладел самым высоким искусством убивать время . Чтобы поддерживать роскошь такой жизни, ему было достаточно славы в узком кругу. В самом деле, священное чудовище могло наутро прочитать все новости о своей жизни в глазах приятелей. Под такое утро Андрюша садился за стол у окна с кем-нибудь из этих друзей и смотрел, как время тихо прогорает у них в глазах, словно дрова в камине. Надо было просто внимательно следить за этим самым временем, о котором люди обычно говорят, что оно прошло мимо. Напротив, это ещё как сказать, кто прошел, и время никак не может пройти мимо человека, потому что оно мертво . Самое большое, что человек может себе позволить, – это вглядываться в него, как в ночь. Вот почему Костенька предпочитал это курортное местечко любым путешествиям и всегда с таким удовольствием тащил сюда кого-нибудь гадить на то же самое место, где сам гадил в детстве и где должны были гадить его папа, дедушки, дяденьки и tutti quanti .
Небо не зарилось над таким небольшим городом, однако дорожная мгла тут начинала светлеть и делилась на чёрное нагромождение железнодорожного моста с товарными путями и на рыжее сияние галогенных ламп, разлившееся внизу по широкому променаду, который и посейчас шёл к морю под именем улицы Ленина, вероятно, и дома кругом гуляли вразброс. Тут были дома, похожие на длинные белёные казармы, и поближе к улице Ленина , и на центральной площади , которая напоминала вид курорта с послевоенной открытки, стояло немного построек, вроде бы как декорации, оставшиеся от одной из тех смертельно скучных комедий из жизни отдыхающих , которые Костины tutti quanti вынуждены были когда-то смотреть здесь в летнем кинотеатре до чёртовой дюжины раз подряд. Но здесь главное были другие дома.
Не без некоторого такого привычного удивления Жорж поглядывал тут вокруг. Пока так называемые девушки с Виктором и с Аркашей что-то выделывали в том последнем фонарике на дороге, который был лавочкой и где милые юноши проводили время, свесив ляжки с прилавка, как тараканы, Жорж и Костя пошли тихо пешком в тени по тротуару, который густые кустарники отделяли от светла, поближе к безобразию.
В сумерках хорошо виднелись дачи, тесно прижавшиеся, отрезанные друг от друга оврагами. Над каждым таким домом в клочьях сада висел фонарик. Крутые склоны в тёмной траве и такие же заросшие пустыри вызывали какое-то замогильное чувство (очень сродни той самой сцене собственной смерти , которую Жорж однажды застал тут на пляже, только гораздо приятнее). Казалось, все эти лампочки над домами освещают не то и светить никому не могут. Темнота жила. В полусвете всё могло быть только жутковато, как эти подонки женского или мужского рода, которые в такую погоду ещё вполне могли заночевать тут в кустах или на лужайке. Сезон собирания в лесу грибов был как раз в разгаре. По всей ветке железной дороги залы станций набивались этими самыми оборвышами, которые до самой ночи торговали на базарах грибами, чтобы встречать утро с разбитой харей тут где-нибудь. Они были сами вроде грибов, собственно говоря. (Вообще, если рассказывать о формировании Жоржа, следует вспомнить, что обнажённую природу, не считая картин в Государственном Эрмитаже, он впервые увидел здесь именно в виде двух таких грибников, которые совокуплялись, позадрав платье, на задворках метеорологической станции. Не то чтобы в этой картине не было прелести, как раз напротив. В этих замечательных людях всё было наружу, так сказать, они были просто созданы, чтобы гадить, дрочить и ебаться у всех на виду, и в этом смысле выгодно отличались от другого скопления живых картин летом на пляже. Представив себе Смерть в виде крупной девушки-подростка, запихавшей себя бутербродом на солнышке в дюнах, Жорж не мог не вообразить Знание в образе чего-то такого бесформенного и разлёгшегося на газоне пиздой. Внешняя сторона такого взгляда на человечество была такой полной и убедительной, что она распространялась на любое собрание народа и всегда позволяла Жоржу покидать эти собрания с чувством собственного превосходства, инфантилизма и слабоумия.)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Василий Кондратьев Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] обложка книги](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-cover.webp)
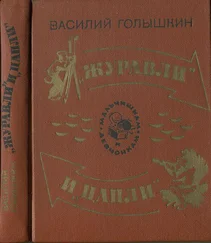

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)




![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)

