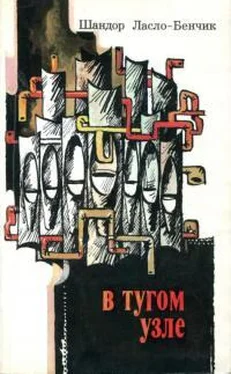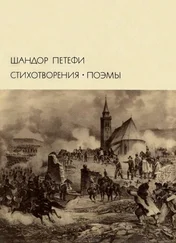Иногда мне даже казалось, что мои опасения не беспочвенны. Потому что если черта нам и удалось так легко уничтожить, то в аду нам все же здорово приходилось гореть. В том аду, который мы сами себе создали.
В общем, это что-то непостижимое. Ты знаешь, что ты сам делаешь, и все же делаешь. По-иному не можешь. Вот и на нас словно обрушилось какое-то проклятье, какая-то идиотская порча, и мы грызем, едим поедом друг друга, как бешеные собаки. Одновременно мы и переживаем друг за друга, по крайней мере, меня как хворь какая постоянно подтачивает. Словом, продолжает цвести любовь, а вернее, бушует страсть, как принято говорить.
Оршока тоже упрямая, как и я, а может быть, и упрямее. Если ее что-то обидит, расстроит (на самом деле или ей покажется), она этого не забудет и в долгу не останется. Не раз бывало, что я возвращаюсь домой в хорошем настроении, поздороваюсь, заговорю с ней, а она — как онемела. И не смотрит в мою сторону, словно меня нет. Спрашиваю: что случилось? Не отвечает или сквозь зубы бросит: ничего. Уже от одного этого начинает сосать под ложечкой, но я все же пытаюсь спокойно расспрашивать дальше. Мол, может быть, кто-нибудь приставал к тебе? Делает вид, что не слышит. На работе неполадки? Молчание. Подгорела капуста?.. Может, заболела?.. Ничего. А то и так: начнет напевать, словно одна в комнате. Конечно, я, наконец, вспомню и черта и дьявола и начинаю клясть на чем свет стоит все и вся. И тут либо прорывается вулкан, либо в течение нескольких дней мы даже не разговариваем. В конце концов потом выясняется — ее вывело из равновесия то, что, уходя, я забыл с ней ласково попрощаться, или прожег пеплом от сигареты чехол на стуле, или сам не знаю какой там еще совершил грех.
А иногда она сама подливает масло в огонь.
Как-то в воскресенье я возился с центрифугой. Я мог возиться с чем угодно — ни конца ни начала. В современном мире всегда что-то подвергает испытанию нашу веру в научно-технический прогресс. Словом, был занят, можно сказать, творчески и с пользой. А чтобы было веселее, поставил около себя приемник «Сокол». Пусть играет, отгородит меня стеной звуков. Меня даже не интересовало, что́ за программу передают, с меня достаточно было приятной музыки. Идиллия, не правда ли? Но тут ее благородие жена пустила стрелу:
— Перестань слушать эту муру!
А мне как раз нравилось. Вот и повод для раздора…
Когда я впервые пригласил Орши на свидание, она была еще совсем зеленым мышонком на бумажной фабрике. Правда, считалась квалифицированной работницей, станочницей, но это скорее было званием; на деле же она скорее была рабыней, прикованной к своей машине, с валов которой снимала сырой серый картон. А дальше одни и те же механические движения: разрезать картон по горизонтали ножом, отбросить, снова удар ножом и снова отбросить, и так бездумно и бесконечно, стараясь выполнять все более возрастающие нормы, работая поочередно в одной из трех смен. Эта неиспорченная душа даже не знала, сколько она перелопачивает за одну смену. Я подсчитал вместо нее. Мы тогда разработали для них автоматику сушилок. Орши была худеньким, тоненьким созданием, а, как я выяснил, за каждые две минуты она нарезала по крайней мере десять кило картона, то есть за час около трех центнеров, а за смену — две-две с половиной тонны. А сколько же за жизнь? Когда я сказал ей об этом, она даже рассердилась:
— Ну, и лучше мне, что ли, оттого, что я знаю?
Когда мы закончили у них монтаж, уже стало ясно, что мы оба подходим друг другу. Обыкновенная история. Она жила в общежитии, а я снимал койку у одной бездетной пары. И муж и жена были железнодорожниками, и мы хорошо ладили. Я жил у них уже пятый год. Они довольно-таки редко бывали дома, но я, однако, не решался пригласить к себе Орши. Мы больше совершали воскресные загородные прогулки или бродили по городу. За всю жизнь, наверное, я не пересмотрел столько кинофильмов, сколько за то время. Потом меня взяли в армию, и Орши приезжала ко мне каждый раз в день посещения. Когда Орши забеременела, я попросил двухдневный отпуск, и мы обвенчались. Вернувшись после демобилизации, я застал у железнодорожников уже другого жильца. Надо было срочно искать квартиру. Так, после долгих блужданий, мы попали к тетушке Бачко. Орши в то время уже не работала в цеху: она прошла переподготовку и стала работать в лаборатории на исследовании материалов. Потом родился Тер — Петер Богар, и она осталась с ним дома. А я нанялся тогда ради левого заработка к мастеру Яноши, занимавшемуся изготовлением надгробий. Нужно было! После трех веселых лет, когда наш парнишка немного подрос и уже не было необходимости сидеть дома, Орши вернулась на фабрику. Однако ее место в лаборатории было занято; ей предложили вернуться в цех. Она отказалась. В конце концов дело как-то уладили, и она осталась в лаборатории. Правда, ей дали работу ниже рангом: мыть пробирки и колбы, следить за чистотой приборов и прочего оборудования. Получала она за это пустяки: тысячу восемьсот форинтов в месяц. Зато работа здесь была в одну смену и малыша Тера Орши могла забрасывать перед работой в детсад и забирать обратно. Но путь неблизкий: час туда, в Уйпешт, и час обратно. Да плюс к этому — заботы, ожидавшие ее дома. Там, где мы жили, магазинов и лавок рядом не было. Поэтому всю тяжесть закупок я брал на себя, и уже вечером, после второй своей работы, заявлялся с сумками домой. Но я любил свою работу, какие бы авралы ни были. Оршока же на новом рабочем месте чувствовала себя неважно.
Читать дальше